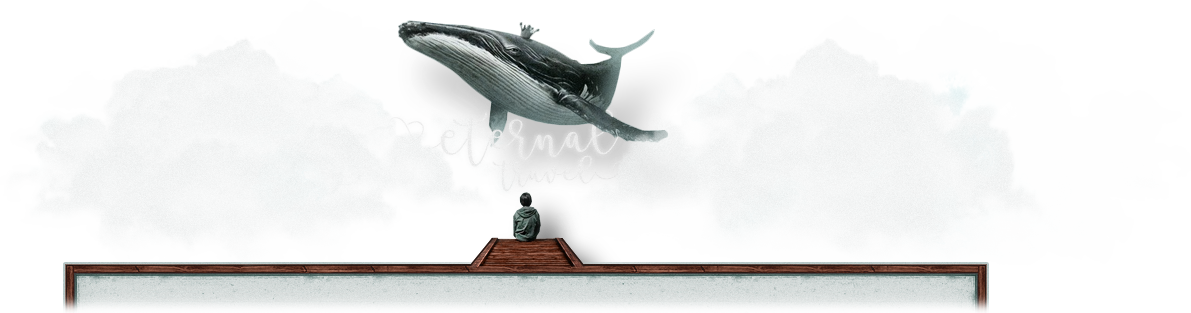Вспоминать всегда сложно. Машина – та самая, которой Солдат боится до чистой паники, до потери контроля – выживает сознание дотла, оставляет только раскаленные угольки, жгущие, отравляющие звенящую пустота. Машина – это больно физически.
Криокамера – нечто… иное. Это тоже больно, но иначе; боль холодная, сковывающая каждую клеточку тела, медленно высасывающая жизнь. И память. Криокамера заставляет забыть, как и машина, но отличие в том, что она оставляет желание вспомнить, не создает вакуума в сознании. И тем она в разы хуже машины.
- Алекс, - повторяет Солдат еще раз, пробует имя на вкус, убеждается, что да, действительно, оно знакомо ему, это не мираж и не болезненная иллюзия – из тех, что то и дело возникают в пустоте, стремясь ее заполнить. Этот человек реален, его можно коснуться, осязать, только цепи мешают, но и он их снимает сейчас. Пульс подскакивает на пару тактов, словно даже сердце сейчас ликует – да, да, да, воспоминания не обманули, ощущения настоящие, тот Алекс, образ которого остался в покалеченной памяти Солдата, не бросил бы его… вот так. Тот Алекс никогда не допускал лишней жестокости или лишнего унижения, потому, наверное, его имя и ассоциируется со спокойствием, чем-то… светлым. Со спасением.
Он и говорит иначе, не так, как те люди; позволяет себе отступления, чего не делает больше никто. Он говорит, как с человеком.
Внутри шевелится нечто – удивление. Солдат помнит те яркие ощущения, связанные с Алексом, - близко, жарко, хорошо, безопасно. Помнит руки, губы, словно все было вчера. Но где-то рядом с этим светом темнота – та самая, что и является источником разочарования. Зимний не хочет ее касаться, не хочет распутывать клубок, боится, что это сломает хрупкое равновесие, подаренное появлением Алекса, убьет зачатки света.
- Давно? – он смотрит рассеяно, но, все же, удивленно, и живое запястье потирает совершенно по-человечески – затекло ведь, и красноватый след от наручников печет, пусть это и не сравнимо с тем, что Солдату доводилось испытывать на операционном столе или кресле. – Но… Я же… звал. Сколько времени прошло?..
Зимний помнит еще кое-что, отчего сердце заходится совершенно аритмично, и забывается, как дышать. Алекс тоже звал его не так, как другие. По имени. Имени агент не помнит, наверное, боится просто вспомнить здесь, дать понять еще кому-то, что такое случалось, но ощущение радости, граничащей с эйфорией, слишком яркое. Достаточно яркое, чтобы в голубых глазах блеснула тень давно забытой надежды, просьбы – сделай это, как тогда, мне нужно, очень.
Солдат не чувствует страха в человеке напротив, может, лишь нервозность. И он не понимает – откуда она? Разве Алекс не знает, что он не причинит ему вреда? Или, может, он когда-то заставил его усомниться в этом? От последнего предположения кружится голова, а внутри вспыхивает едва ли не ненависть к себе.
Человек, означающий для Солдата свет, близко – ближе, чем все остальные, но дальше, чем был когда-то. Зимнему хочется назад, в это «когда-то», но он не смеет просить – не здесь, где за ними наверняка наблюдают. Это сложно – сдерживаться, - но он правда старается. Не для себя даже, для Алекса.
- Это… база, - ответ неуверенный, словно Солдат пробирался к нему через целую полосу препятствий. – Они разбудили меня. Не помню, когда; что-то… кололи. Я не смог считать.
В голове до сих пор туман, липкий и мерзкий, не дающий добраться до сути, до своего «я». Но даже этого туман позволяет увидеть то, что послужило причиной срыва, причиной испуга: холодный стол, люди в белом, яркий свет ламп и блеснувший в этом свете скальпель. А дальше – боль в ребрах, заглушить которую наркозом никто и не подумал. Что это было – очередная пункция или новая порция металла в костях, едва держащих вес левой руки? Солдат не знал. Боль не позволила запомнить ничего, кроме самой себя.
- Был стол. Операция, еще одна, - Зимний хмурится, и отчего-то на Алекса посмотреть страшно; что, если он осуждает – за то, что не вытерпел, сорвался? – Было… больно. Очень.
От него хотели что-то еще, когда «белые халаты» отошли. Может, дать еще какие препараты, может, обследовать после разморозки – Солдат не помнил. Первая порция препаратов усвоилась, и он мог наконец сопротивляться, не подпускать к себе, защититься хоть как-то. Жаль, что сил надолго не хватило.
Зачем его разморозили? Этого он тоже не знал. Новая миссия или, может, ряд усовершенствований? Перед ним не отчитываются.
Солдат медленно качает головой – отрицательно – и зябко ведет плечами. Холод и страх виноваты в равной степени, к тому же, он, в отличии от персонала, только в хлопковых футболке и штанах, кажется, из медотсека. И он чувствует холод, даже если в этом кто-то сомневается.
Он с трудом заставляет себя поднять взгляд на Александра, и тот, Солдат уверен, получается затравленным и испуганным. Скрывать этого нет сил.
- Не знаю, чего еще хотели. Я… испугался. Не хотел, чтобы подходили, - голос становится все тише, и под конец вовсе сходит на шепот. – Не хотел, чтобы трогали.
Страх внутри вновь сворачивается колючим комком, и причину Зимний понимает запоздало: что, если Алекс решит, что и его прикосновений Солдат боится? Что, если он потому держится так отстраненно?
Тело действует само, без контроля ума, впрочем, Зимний и не сопротивляется – просто медленно сползает с чертового стула, на спинке которого все еще болтаются цепи, на пол, на колени, и склоняет голову, упираясь лбом в мужское колено. От этого… спокойнее. Определенно. И в этом – признание, просьба, мольба, все одновременно.
- Мне страшно, - повторяет он еле слышно, закрывая глаза. Он только надеется, что Алекс поймет правильно, поможет справиться с этим. Как и раньше.
Кто, если не он?
[NIC]Winter Soldier[/NIC]
[STA]drag me down[/STA]
[AVA]http://funkyimg.com/i/2hUXY.png[/AVA]
[SGN]
 [/SGN]
[/SGN]