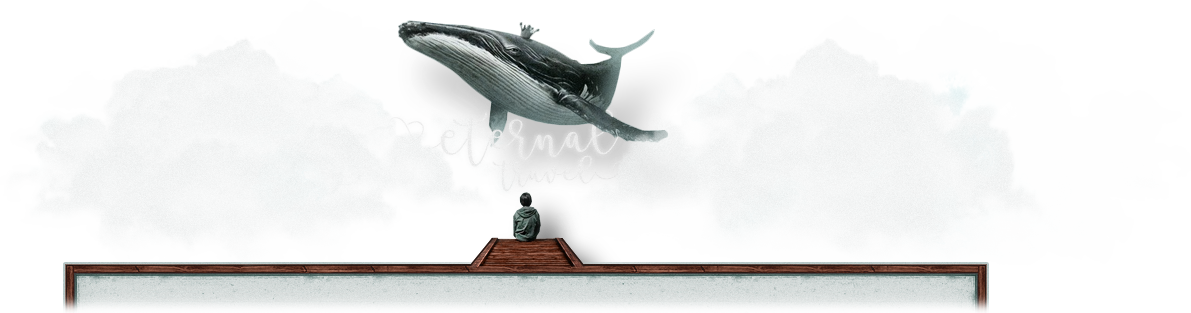| ОСНОВНОЙ НИКНЕЙМ: |
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Пишу простыни. На этом все.
ПРИМЕР ПОСТА:
Старая добрая Италия была «старой доброй» еще тогда, когда по улицам Рима вышагивали, обласканные теплым солнцем цивилизации, лучшие мужи эллинизированного мира, а италики, еще не получившие римского гражданства, эти «новые люди», бессильно бившиеся в золотые ворота Сената, начали складывать в свои амбары оружие, не боясь, что зерно загниет; она была «старой доброй» и тогда, когда Рим - родина знаменитейшего из Юлиев Цезарей, родина Суллы - еще верил в непогрешимость своего влияния на весь цивилизованный мир. Эмпусе нравилось это; свет римской империи не вредил даже ей. С тех пор, конечно, изменилось немногое. И сейчас еще, совсем как тогда, в мелких деревушках и крупных городах провинции Тоскана мрачные матроны прядут свою вонючую шерсть, тихо переговариваясь на горловом диалекте. Они зовут «spazzatura» - мусором - тех, кто имеет смелость ступить на их землю. Они - грязные потомки римских вольноотпущенных! - называют мусором всех, кого подозревают в родстве с собой, ибо история в их памяти столь же размыта, как обещание прекрасного оазиса посреди пустыни, вмиг оборачивающееся голыми камнями и раскаленным песком. Старая добрая Италия - тот же spazzatura, что и ее жители, что и весь остальной мир. И все-таки, для Эмпусы она «старая добрая», потому что на памяти ее все еще жив блеск золотых ворот, закрывавших гвалт, поднимаемый сенаторами к концу заседания; она очень хорошо помнит и то, как Рим впервые увидел сияющие умом глаза юного Цезаря, и то, какое отвращение в ней поднималось от одного только вида бесправных жен и матерей, единственной радостью которых было завести себе любовника. Но, разумеется, как ни любила она Италию, образ ее безвозвратно ушел в прошлое, оттесненный Италией новой, охваченной заразой Инквизиции. Подобно скверне, по венам ее дорог потекли палачи и инквизиторы, громко, как самого Господа, славя папу и его волю. Что с того, будто бы святейший каприз приказывал уничтожать семя сатаны, какой бы вид оно ни приняло? Тем приятнее дьяволу, объявили священники по всему Апеннинскому полуострову, когда зерно зла, уроненное им в светлую душу, дает первые всходы. С этим Эмпуса была не согласна - и потому лишь веселей ей было наблюдать за тем, как, исполняя указания святейших, палачи с корнем вырывают из прохворавшего мира самые чистые сердца. И чем чаще устраивались казни, тем сильнее ей казалось, что старухи правы, и от всего населения Италии остался один spazzatura, ибо нет более даже намека на то, что Инквизиция уничтожает скверну: там, где все женщины - сметенный в самый дальний угол мусор; там, где все мужчины - мусор, подхваченный ветром новой идеи - нет ничего «старого доброго», ничего живого и ничего святого. Разгорелись первые костры - дым от них даже не успел достигнуть моря - но Эмпуса уже ликовала, как это бывало всегда, когда она понимала, что точка невозврата пройдена, и дальше будет только хуже. Когда жар, охвативший Италию, еще не связывали со смертельной лихорадкой, она ждала зловонных язв; когда священники в самых отдаленных провинциях начали говорить о приходе царства земного, она смеялась, потому что ранее всех чувствовала между губ горечь золы и пепла, а на зубах - скрип предсмертных воплей. Она чувствовала все это - и находила время Инквизиции любопытным.
Так или иначе, но путь Эмпусы по итальянским землям лежал не от Флоренции и даже не от Пизы. Если кто-то и заметил, как, не пересекая границ города Прато, в нем вдруг появилась одинокая женщина, то, должно быть, виду этот кто-то не подал, потому что Эмпуса, не встречая сопротивления или даже непонимания со стороны жителей Прато, провела в нем два дня, сидя на ступенях кафедрального собора либо в образе маленького чумазого мальчика, либо обернувшись изъязвленной старухой; она сидела там, в густой тени, отбрасываемой собором, смотрела на ярко-желтые полосы света, ползущие по пыльной земле в нескольких десятках метров от ее ног, и молчала, изредка протягивая руку для подаяния: прихожане кривились ей в лицо, когда она цеплялась за их одежду своими сморщенными старушечьими руками, и гулкими в каменной тишине храма голосами вещали про то, что ближе к морю, в Сиене, например, старух уже давно загнали в подполы, откуда ход им есть только в саму Преисподнюю - вот там, слышала она отовсюду, порядки учреждены сильной рукой верховного инквизитора, и вот где святость, пусть славится папская конгрегация. В Прато, где разговоры велись о Сиене, не было еще страха перед Инквизицией, потому что покуда благородные дочери своей земли упорно молились об избавлении ее от скверны, их не сжигали, как в более отдаленных районах, где, кроме инициативы благословлённых свыше палачей, процветал самосуд. А поскольку в Прато Инквизиция жила только на языках невежественных горожан, никаких причин для того, чтобы и далее оставаться там, Эмпуса не видела; однажды отвратительная старуха - или там сидел все-таки мальчик? - вдруг исчезла, и некому стало беспокоить честных прихожан. Вскоре их разговоры о святом пламене поутихли сами собой.
Итак, Эмпуса двинулась к Сиене. Из Прато она выскользнула, обернувшись худощавой рыжей сукой. Путешествовать на четырех ногах было легче, чем на двух, и, конечно, на собаку обращали гораздо меньше внимания, чем на одинокую женщину. За одно лишь то, что она оказалась на дороге без сопровождения, могли попытаться казнить раньше времени - а это ей, несмотря на чудовищной силы скуку, было совсем ни к чему. Впрочем, еще до того, как достигнуть Сиены, она прибилась к двум фермерам, очевидно, перевозившим зерно в город. Нагнав их на закате - тогда, когда она могла передвигаться без вреда для своей собачьей шкуры - Эмпуса с вдохновляющим лаем принялась носиться вокруг их телеги. Такова была игра, предупредившая их убийство и позволившая ей без проблем, не чувствуя голода, войти в окрестности Сиены, значительно более тихие и мрачные, чем их соседи. Однако, еще проходя мимо окрестных деревень и лениво вслушиваясь в разговоры селян, она поняла, что здесь ловить ей нечего: инквизитор, к радости тех, чьи семьи успели пострадать от его дел, отбыл в Ватикан, испрашивать милости у папы за списки казненных им еретиков; и, наконец, несмотря на то, что Эмпуса подошла к стенам Сиены не более чем на сто метров, в нос ей ударил запах страха, смерти и слез, красным стягом нависший над замершим в дурных предчувствиях городом. Чертыхаясь, она вновь развернулась, на этот раз в сторону Гроссето, надеясь, что в менее густонаселенном районе ей повезет больше, и мучаясь при этом мрачными мыслями. Была в их беспорядочном пчелином рое и одна светлая, бессознательная и беспомощная, заставлявшая Эмпусу ускорять шаг, не жалея своих собачьих лап, и вздрагивать, предчувствуя ее разрешение. Впрочем, думала она, было в этих размышлениях нечто, наводящее на мысли о том, что сладкое томление - как перед первым глотком крови - вовсе не приятное исключение в полосе безрадостных раздумий, но стержень, корень зол, которые, должно быть, рано или поздно с нею приключатся. Честное слово, ей бы не хотелось, чтобы Фортуна так некстати вспомнила о своих прямых обязанностях, и то, о чем она так старательно думала, случилось «рано».
Но мы вернемся к ее путешествию. Гроссето во те времена был совсем не такой, какой он есть сейчас и каким был большую часть своего существования. Что, спрашивается, она искала, неспешно, но уверенно продвигаясь из центра Италии к берегам Тирренского моря? Должно быть, не живописные виды, не влажный климат бесконечных озер и малярийных болот, не вина и не тишину виноградников, для защиты от насекомых окуренных сладковатым древесным дымом. И все-таки, она упорно продвигалась на юг, прочь от мрачных стен Сиены, несмотря на то, что день за днем путешествие это становилось все более утомительным: на подходе к первым деревням, отстроенным рядом с винодельнями и минеральными источниками, часто прямо на нетвердой болотистой почве, ей приходилось тщательно выбирать маршрут, чтобы раньше времени не попасться людям и при этом успеть задневать в одном из деревенских амбаров или погребов; все чаще на пути ей, вместо бесконечно тянущихся, слепящих разноцветьем трав полей, стали попадаться топи и заросшие ряской озерца, над которыми, подобные постоянно перемещающимся тучам, летали комариные стаи. Она либо обходила их стороной, понимая, что может увязнуть, либо подолгу сидела у воды, с остывшей ненавистью глядя на лунный серп, отражающийся в просветах между темно-зеленой тиной. Проходя глубже в окрестности Гроссето, Эмпуса не раз думала повернуть назад, попытать счастья во Флоренции или устроить какую-нибудь новую шутку для папы - скажем, вырывать и скидывать вниз по листику из его изукрашенного молитвенника, забравшись на купол Собора Святого Петра - но что-то, что было гораздо сильнее скуки, сильнее страха перед водой, тянуло ее дальше. Поэтому она, не в силах противиться, упорная в своем неведении, шла на юг, и казалось ей, что нет на свете таких сетей, из которых она не смогла бы выпутаться.* * *
Подобно многим другим итальянским семьям, семья Антонии Серры занималась виноделием, с той лишь разницей, что еще до того, как Италия сунула свой нос в пенаты гражданственности и демократии, ее предки ухватили плодороднейший участок земли близ Гроссето; шли годы, поколения сменяли друг друга, но земля, столетиями кормившая их семью, не становилась менее плодородной. А потому виноградники, обильно насаженные на освещенной солнцем возвышенности, среди холмов, за которые малярия и ветры не пробиралась и в самые худшие для окрестных сел годы, приносили им стабильную прибыль. Впрочем, речь совсем не об этом. Мы поведем речь о том, как, тогда двенадцатилетняя, Антония Серра впервые столкнулась со смертью. Было это как раз в тот год, когда племянницу ее матери обвинили в колдовстве и повесили прямо перед Сиенским собором. В том, что хоть кто-нибудь из повешенных инквизитором был виновен, и сама Антония, весьма сообразительная для своих лет, и вся ее семья не верили - более того, никто из них, включая семнадцатилетнего Марка, брата Антонии, не признавал существования ведьм до того самого дня, как одна из них запустила в их дом Смерть.
Мы говорим об Эмпусе - а она никак не ведьма, хотя тогда и считала себя гораздо страшнее любой колдуньи - и о том, зачем тем вечером она наведалась на виноградники семьи Серра. Ближе к концу своего путешествия, когда до Гроссето осталась какая-нибудь ночь пути, то бессознательное в Эмпусе, что все эти дни взывало к ее разуму, заставило ее свернуть дороги; чем ближе она подходила к своей цели, тем сильнее становился ее голод и тем острее становилась хватка ночи на ней: красное от заката солнце, ранее пощипывавшее ее шкуру, впервые за долгое время выказало свое расположение, огладив все ее тело - легко, почти сочувственно - и быстро скрывшись за горизонтом; там, где секундами ранее Эмпуса различала сотни тысяч разных запахов, из пепла, как достойная награда за долгие поиски, восстал шлейф чудесного аромата. Он звал ее - и она пошла за ним, к мальчишке, совсем еще юноше, склонившемуся меж виноградных лоз в последних минутах вечерней работы. Поймите же, она была гурманом, обнаружившим редчайшее из блюд; энофилом, в руки которого попала бутылка самого прекрасного из вин; коллекционером, чья коллекция была бы неполной, не утоли он свою алчность. Его кровь пела для нее - а эта песня, вы уж поверьте, несмотря на то, сколь немногим она слышна, не знает ни одной фальшивой ноты - и потому для нее не было неправильным или жестоким лишить его жизни; она знала его, чувствовала биение его сердца - на его зов она шла, снедаемая голодом - и понимала лишь то, что забирает жизнь, по праву ей принадлежащую. Не обвиняйте саму алчность; не презирайте сам эгоизм; не осуждайте сам голод. В том, как Эмпуса убила того мальчика, не было ничего жестокого, ничего человеческого: ни капли пошлости, всегда сопровождающей убийство, и ни толики бессмысленности - лишь бесконечное восхищение, чуждое любви и сродственное с самой волей к жизни.
Кожа в просвете между воротником рубахи и шеей у него была белая, будто кость, и пахло от него совсем как от стакана подогретого перченого вина - пряностями и мускусом, забродившим виноградом и дымом; в его глазах, когда он заметил ее, стоящую между остывшими за вечер виноградными листами, не было ни страха, ни отвращения перед ее наготой и голодом, трещиной разделившим красоту и уродство ее лица. Впервые за долгое время засмеявшись - о, она нашла чудесного агнца! - Эмпуса простерла к нему свои белые руки, как мать, приветствующая сына, или как соскучившаяся по ласке любовница. Ее руки по-отечески заботливо легли на его плечи, и она привлекла его к себе одним сильным движением; касаясь губами трепещущей жилки на его шее, она не вслушивалась в разговоры работников и остальных обитателей винодельни, не задумывалась о том, что мальчик так ничего и не успел ей сказать: все кануло, растворилось в Лете, подобно измученной душе, когда на язык Эмпусы лег солоноватый привкус его кожи, а к небу устремилась теплая кровь. Жадность бывает сродни искусству. Как выпить его, чтобы ни одна капля не канула втуне? Чтобы сердце до самого последнего мгновения сражалось за жизнь, а душа горела немыслимо ярким светом? Что нужно сделать, чтобы безумный грохот чужой жизни оглушал ее как можно дольше? В такие моменты она как никогда ждала гармонии и как никогда страдала от того, что она недостижима. Поэтому, когда совсем рядом с ними раздался детский крик, Эмпуса почти не испытала злости, как, впрочем, и чего-либо, хоть сколько-то похожего на удивление; все ее тело разочарованно передернуло, она сильнее прижала к себе обмякшее тело мальчика - к счастью, она была достаточно сильна для них обоих - и, сделав последний мощный глоток, сдавила прокушенную сонную артерию языком. Сердце, все еще бьющееся, с силой ударилось кровью о его поверхность, проталкивая в рот Эмпусы новые капли. Голова у нее закружилась, как это обычно бывает, когда она стряхивает с со своих плеч паутину чужой жизни; ночь, измазанная сразу во всех красках спектра, поплыла перед глазами, а до ушей, будто через вату, донесся новый крик. Она замерла, прижимая мальчишку к груди и не отрывая губ от его шеи. К крику девочки добавился вой матери, молитвы работниц и ругательства мужчин.
- Именем Господа нашего заклинаю тебя, отпусти моего сына!
Им не стоило приказывать ей. Эмпуса перехватила мальчика поудобнее, ласково обхватывая его поперек груди. Губы ее оторвались от его шеи, и кровь - та, что еще осталась - закапала на землю, пачкая виноградные листья; в последний раз Эмпуса, матерински покачивая медленно охладевающее тельце, зарылась в его волосы, жадно вдыхая запах и, громко, счастливо засмеявшись, запустила в безвольно запрокинутую шею окровавленные зубы. Мальчишка вздрогнул, когда она сомкнула челюсти и потянула назад, с громким треском и чваканьем вырывая кусок плоти, и, наконец, умер, громко и протяжно захрипев - должно быть, до этого он все еще пытался дышать. Ночь раскололась от нечеловеческого вопля, и Эмпуса, покачиваясь, будто пьяная, выпустила тело жертвы из своих объятий; он так и упал на землю, с изуродованным горлом и по-детски удивленным лицом. Антония, прижавшаяся к рыдающей матери, закрыла уши ладонями, лишь бы не слышать, с каким звуком исчезает во рту ведьмы кусок мяса, бывший частью ее брата. Все замерли, будто в оцепенении, а она, обнаженная, окровавленная, подставила всю себя лунному свету, медленно покачивая обмякшими руками, будто дирижер, все еще слышащий осколки никому не известной симфонии. Когда же ее волосы - цветом гнилые листья или ржавчина - упали назад, обнажая лицо, все увидели, что она улыбается, нежно, таинственно и влюбленно. Сзади раздался отвратительный звук, с которым кто-то пытался опорожнить свой желудок, крик матери Антонии превратился в беспомощный хрип, и она, крупно вздрогнув, сползла на землю, погружаясь в глубокий обморок. В этот момент люди вдруг ожили, загалдели, как растревоженный улей, всей стаей набрасываясь на застывшее у детского тела чудовище. Эмпуса не сопротивлялась. Вокруг нее с немыслимой скоростью бурлил гневный людской поток, а она стояла, позволяя самым смелым прикасаться к себе в попытке удержать. Ее не били. Казалось, они боялись даже дотронуться до нее, и лишь гнев и ужас заставляли их суетиться вокруг нее, искать веревки и помогать женщинам. В этом была вся суть человеческих общин - к несчастью, в природе у них объединяться лишь тогда, когда все эти хлопоты уже совершенно ни к чему.
- Прикройте эту пакость, - сказал кто-то, и Эмпусу быстро запихнули в бесформенное рубище. - Свяжите ее, - снова сказал кто-то, и Эмпусу завернули в тугой кокон из веревок. Она не пыталась освободиться. В голове у нее все еще шумела песня, которую она слышала, прижавшись к шее того мальчика, а во рту было невыносимо сладко от его крови и мяса. Ей не было жаль его, не было жаль женщину, призрак крика которой все еще звенел над виноградниками. Ей было досадно лишь оттого, что ни один из них, включая самого Марка, не понял ее; они не захотели понять, какую услугу она оказывала каждому из них, ибо не видели, как была счастлива она, как был счастлив убитый ею мальчик, когда она прижимала его к себе и пила его кровь - и оттого Эмпусе было почти жалко людей, укутывающих ее в веревки и думающих, что она не сбежала бы, если б захотела. И тем не менее, она не хотела бежать. Эйфория, жидким огнем потекшая по коже, принесла в ее душу такое умиротворение - и вместе с тем такое безумное желание бесноваться - что она попыталась бы сбежать разве что для того, чтобы поджечь тело мальчишки и провести ночь, танцуя в самом сердце горящих виноградников. Однако двигаться ей не хотелось; люди и их суета огибали ее, подобно воде, а она все смотрела на тело мальчика, о котором во всеобщей суете так никто и не вспомнил. А она готова была поклясться именем собственной матери, что меньше всего ей хотелось, чтобы его позабыли. Тогда она вдруг извернулась в руках мужчин, словно змея, и, когда Марка загородили от нее, выглянула из-за плеча того, кто пытался унести его. Антония, стоявшая в это время у дома и смотревшая на то, как работники связывали ужасную женщину, с ужасом увидела, как в ее жадных глазах вдруг вспыхнуло пламя, и тело ее брата загорелось, как головешка, а отец с криком отпрянул от него, прижимая к груди обожженные руки. В тот самый момент, когда это произошло, взгляды Антонии Серры и Эмпусы пересеклись, и девочка отшатнулась, не помня себя от ужаса: лицо ведьмы вдруг исказило безумное веселье, и она засмеялась своим громким, красивым смехом. Затем кто-то из смельчаков взвалил ее на свое плечо и исчез в ночи, сопровождаемый криками своих соплеменников.
Антония еще долго стояла, смотря на то, как из амбаров выносят ведра в бесплодной попытке потушить тело Марка и воспрепятствовать распространению бесовского огня. А виноградники горели…* * *
Эмпуса не запомнила название деревни, в которую ее отвезли. Говоря по правде, ее вообще мало что интересовало после того, как она поняла, что ее решили отдать на расправу тамошнему священнику, возомнившему себя инквизитором и решившему очистить окрестности Гроссето от скверны. Она приходила в себя необычайно долго - даже дольше, чем это обычно бывало после того, как она убивала по пять и по шесть человек за одну ночь. Всю дорогу она болталась головой вниз на колченогой кляче, без интереса вслушиваясь во встревоженные разговоры потревоженных ею фермеров. И все-таки, как поняла Эмпуса по обрывком их фраз, пожар, так некстати устроенный ею, волновал их гораздо меньше, чем следовало. Очевидно, все их мысли сводились к ней одной: к тому, не решит ли она вырваться и не захочет ли убить их точно также, как убила Марка Серру. Волновались они зря, потому что меньше всего на свете Эмпусе хотелось пить их горькую, попорченную страхом кровь.
Лишь тогда, когда густой мрак ночи поредел, отгоняемый близким рассветом, она заволновалась и завозилась в веревках, пытаясь задрать голову к горизонту, чтобы понять, как скоро встанет солнце. К ее счастью, это недолгое путешествие окончилось прежде, чем солнечный диск успел раскалиться и обжечь ее кожу до волдырей; ближе к рассвету мужчины, подгоняемые зримым недовольством пленницы, достигли цели своего пути. Крепко держа лошадь под уздцы, они энергично застучали в деревенские ворота - редкость в этих краях - и прекратили сотрясать их лишь после того, как кто-то все-таки показал нос. Красочно расписав все, что натворило «это отродье», они, испытывая нескрываемое облегчение, спихнули связанную ведьму на руки присланных священником молодцов и, пообещав явиться на казнь, повернули назад. К радости Эмпусы, ее бросили в прицерковный погреб - по-видимому, деревня даже приблизительно не была приспособлена для дел Инквизиции - где уже, грязные, замерзшие и дрожащие, по к стенам жались пять девушек и двое юношей, прильнувших друг к другу в небратском, но очень трогательном жесте. Когда дверцы над их головами сомкнулись, погружая погреб во тьму, рядом с Эмпусой, захлебываясь рыданиями, затряслась одна из деревенских «ведьм» - видимо, непозволительно красивая - однако остальные приговоренные сохраняли мрачное молчание. Что ж, молчала и Эмпуса, покорная их общему горю; отодвинувшись от влажной стены, она закрыла свои змеиные глаза и принялась ждать.
Ожидание ее окончилось ближе к полудню. Откуда-то сверху раздался скрип, и в погреб хлынул солнечный свет. Эмпуса подтянула ноги к груди и, бесцеремонно навалившись на одну из «ведьм» позади себя, отодвинулась в тень, не дожидаясь, когда разгоревшийся снаружи спор (о том, кто будет спускаться вниз - в конце концов, деревенщину не перевоспитаешь, даже привязав ее к конуре верой) завершится в чью-либо пользу.
- Вы не спуститесь сюда, - громко сказала она. Голос ее от долгого, почти недельного молчания был хрипл и низок; отражаясь от стен погребка, он стремительно взлетал вверх, похожий на гул из самой Преисподней. - Вы не спуститесь сюда, люди, - повторила она. «Конвоиры» наверху замерли, прислушиваясь к ее словам. Эмпуса могла поклясться, что в тот момент, когда она заговорила, подмышки у бедняг жутко вспотели - кроме вони человеческих отходов, блевотины и ужаса, стоящей в погребе, она остро чувствовала запах их пота, кислый и гадкий, как сам страх. - Приведите мне фанатика, пославшего вас сюда. Приведите его сюда или, клянусь, ваша земля еще многие столетия будет рожать только кости.
И они ушли. Ушли так быстро, как могли: спешно захлопнули погреб, громко вознося Господу молитвы, и скрылись, унося с собой солнечный свет и запах страха.
За ними явился сам священник. Гладко выбритый, с жидкими сальными волосами и носом, похожим на чудовищных размеров картофелину, он бесстрашно спустился в погреб, грохоча ногами по каменным ступеням и гундосо бормоча молитву. В руках его была чаша со святой водой. Не говоря ни слова, он опустил в нее руку и с наслаждением осенил заключенных крестным знамением. Эмпуса с чувством плюнула ему под ноги и захохотала. Смех ее, хриплый и громкий, ударялся о стены, будто волна, и, разбиваясь, каменным эхом катился дальше.
- Ты не казнишь нас, священник. Не сейчас, - сказала она, глядя ему в глаза. Во взгляде ее, казалось, танцевало адово пламя. - Все мы - дети ночи, коль уж ты схватил нас. Сложи свои костры, глупый человечишка, но мы взойдем на них не раньше, чем солнце станет красным.
Он попытался было плеснуть в нее святой водой, но вдруг закричал, прерывая очередную молитву, потому что толстая ручка, за которую он держался все это время, вдруг докрасна раскалилась, и святая вода в чаше зашипела от жара ее стенок. Воя от боли в прижженной к чаше руке, священник разжал пальцы, оставив при этом на горячем железе лоскут кожи, и чаша покатилась по каменному полу. Эмпуса поджала ноги под себя, боязливо избегая соприкосновения с водой.
- Ты уйдешь, священник, и приготовишь свой плевый огонь. Или я сама сожгу тебя.
И он ушел.