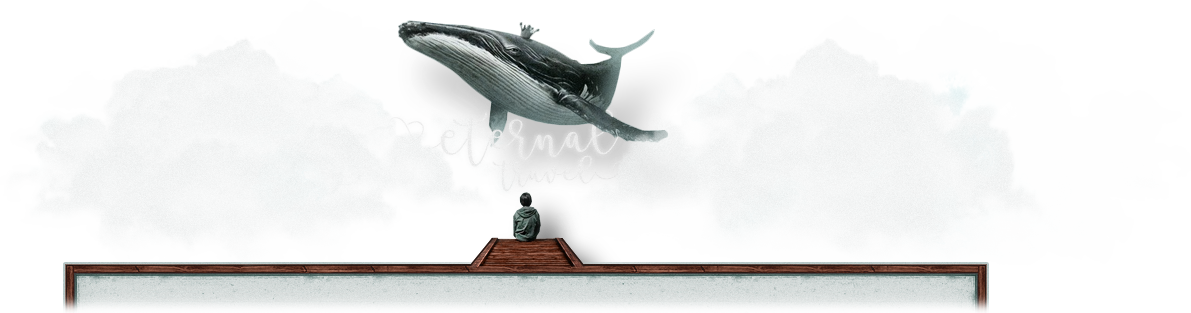В воздухе пахнет Железным лесом. Хель понимает это запоздало и отвлеченно, и тут же ею овладевает какое-то неотвратное болезненное чувство, полное детской обреченности и неизбежности - беспомощность перед лицом бесконечной вереницы воспоминаний, призраками встающих перед ее глазами в галлюциногенном пару травяного сбора. Бесчисленный сонм отдаленных криков, умозрительно сложенных в кособокий лабиринт диких образов, касается ее щеки материнским прикосновением и тут же рассеивается, оставив на лице выражение жадной грусти. Хель смотрит на Дэниела, но вспоминает Локи, и на мгновение они сливаются перед глазами ее в цельную фигуру, как неделимое отражение той памяти, что зависла над опустошенным столом дамокловым мечом. Дрожащей рукой она подносит к губам свою чашку, дымящуюся и плавящуюся под неотступным огнем черных трав в завихрении медленно чернеющей жидкости; касается щербатого, как детская улыбка, края языком и, обжегшись, пропускает Железный лес в самое себя.
Они сидят друг напротив друга, как старые знакомые, как муж и жена, как едва знакомые любовники: не произнося ни слова, наблюдают друг за другом из-за парящих чашек, пока болезненно желтоватый фонарный свет превращает ржавую пожарную лестницу в обуглившийся скелет великого змея, окутавшего каменное ядро земли своими бесконечными кольцами. Что происходит?.. Человек рисует, и она наблюдает за ним со всепоглощающей алчностью, с каждым движением твердой руки все глубже погружаясь в гипнотический танец чернил на линованной бумаге. Запоздало осознав, что руки ее с каким-то злобным ожесточением впились в остывающие бока чашки, Хель разжимает пальцы, и стол едва ощутимо вздрагивает, приняв на себя удар старой керамики. Не справившись с собой, она на мгновение закрывает глаза и медленно, очень тихо выдыхает. Весь мир, сузившийся до фотографической точности рисунка в черной тетради, взрывается смыслами, крошится, дробится и вновь собирается воедино, образуя знакомое, уродливо черное полотно истины. Хель едва-едва успела взять себя в руки, когда поняла, что Дэниел встал и с пугающей, вряд ли им самим осознаваемой - с той самой, не принадлежавшей ему бесшумностью, - обошел стол и замер позади нее. Зачем?.. Пальцы Хель мелко, панически трясутся в тот момент, когда она позволяет знакомой руке осторожно обернуться вокруг собственной кисти, чтобы направить.
Она вскакивает на ноги еще до того, как острая бумажная фигурка, сложенная из рисунка омелы, врезается в стену и невыносимо долго падает, прежде чем коснуться пола с оглушительным в наступившей тишине грохотом. Отшатывается от Дэниела, как от прокаженного, хотя тело ее еще хранит отголоски его странных бережных прикосновений. Ее колотит крупной неослабевающей дрожью, и все же Хель находит в себе силы для того, чтобы в один быстрый шаг преодолеть отделявшее ее от самолетика расстояние и с чем-то, почти похожим на страх, какой можно, наверное, наблюдать в движениях человека, примеривающегося с тому, чтобы взять в руки еще живую гадюку, поднять его в воздух.
Она чувствует взгляд Дэниела на своей коже и осязает его непонимание, полупрозрачным черным дымом повисшее в воздухе, но не может заставить себя посмотреть на него. Громко стуча каблуками по полу и сосредоточенно сдвинув брови, Хель так же быстро доходит до плиты, поджигает конфорку и подставляет самолетик под колеблющиеся языки синего газового пламени. Ее руки, запятнанные невидимыми следами его пальцев, все еще дрожат, но кожа, которой почти касаются языки пламени - выжигающие, очищающие - не чувствует ни жара, ни боли. Ранняя зимняя ночь ложится на Нью-Йорк рваным шерстяным покрывалом, пыльным и непрозрачным, как театральный занавес; яркая желтая лучина загоревшейся бумаги вновь превращает отрешенное, напуганное лицо Хелены в оплавленный с одного края бронзовый оттиск уродливой кладбищенской статуи, и эта иллюзия, движущаяся и изменяющаяся вместе с горением нарисованной омелы, кажется вечной и незыблемой, как вращение небесных сфер. Помутневшим, недвижимым взглядом Хель вглядывается в охвативший рисунок пожар и пытается понять, какая часть Локи, все еще жившая в Дэниеле Стэнтоне, придумала для нее эту жестокую шутку, но не находит на свой вопрос ни единого ответа, соответствовавшего бы действительности хоть в малейшей степени. Острые листья, уроненные в невесомое переплетение ветвей, съеживаются и обугливаются, превращаются в пепел и осыпаются в дрожащее синее пламя.
- Моя мать, - глухим голосом говорит тогда Хель, бросая догоревшие обрывки бумаги на груду посуды в раковине и заливая их водой, - Была язычницей. Она учила меня гадать по звездам и костям животных, а когда пришло мое время уйти от нее, то была милосердно жестока и не питала во мне добрых чувств, чтобы только я не тосковала по ней там, где ничто не смогло бы вернуть меня ей.
Воспоминания наполняют ее лишь на мгновение, как переменчивая жидкость наполняет собой треснутый глиняный сосуд лишь затем, чтобы покинуть его, просочиться сквозь трещины и уйти в землю. Ангрбода происходила не из породы ласковых матерей; ее угрюмая, равнодушная и редкая ласка заменяла Хели, Фенриру и Йормунганду всю ту лицемерную нежность, которую из лучших побуждений по капле вливают в младенцев эссенцией, подпитывающей ростки беспомощности и страха. Они не выжили бы в Железном лесу, не будь их мать собой; Хель не выжила бы в том бесконечном ледяном изгнании, на которое их обрекли мудрые боги, не будь ее младенчество таким, каким она его помнит.
- Когда я видела ее в последний раз, она сказала мне, что взгляд мой должен быть жесток, а сердце свободно, иначе я сгину, и от меня останется лишь тень. Только недобрый взгляд может увидеть истину, и только сердце, свободное от страха или любви, способно на сострадание, хотя по отдельности они не представляют никакой ценности… ты знаешь, что нарисовал, Дэниел? - Хель смотрит ему в глаза с угасшей тревогой и мрачной решимостью. - То, что ты нарисовал, многое сказало бы тем, кто умеет видеть.
Движением спокойным и медленным, нисколько не напоминающим о тех безумных метаниях, которые охватывали ее несколькими минутами ранее, Хель делает к Дэниелу шаг, и губы ее при этом отчего-то движутся, словно повторяя слова молитвы или проговаривая еще не прозвучавшее признание. Красноватая полоска языка на мгновение показывается между двумя рядами мелких белых зубов, как моллюск, скрытый за острыми створками раковины, и тут же исчезает, проталкивая прямо в пахнущий гарью и плесенью воздух новые слова:
- Ты заешь эту легенду?.. Ту, в которой над богами сыграли злую шутку, превратив жизнь в смерть… неважно, не говори. Ты все равно не знаешь ее так, как знаю я. Я расскажу, как обещала, хотя, должно быть, ты все равно меня не поймешь. Сейчас люди говорят, будто бы это легенда о Бальдре и его смерти, но…
Хель на мгновение смежает веки - они горят огнем, в котором сгорают языческие идолы далекого прошлого - и позволяет лицу того, кого она видела десять тысяч человеческих жизней назад, встать перед своим внутренним взором бестелесным бледным призраком. Бальдр был ее залогом, золотым знамением весны в объятиях вечной осени Эльвиднира; он был и ее обещанием - жестокой шуткой, нелепо превращенной в ничуть не менее жестокий урок для тех, кто некогда разлучил Хель с ее семьей; и все же, он был - ее, и она любила его, потому что он, единственный из всех богов, не мог покинуть ее и не мог смеяться над ней с непоколебимой высоты своего оплеванного бессмертия.
- Впрочем, забудь. Рассказывают, будто бы светлейший сын Одина был убит символом жизни. Пронзенного ветвью омелы, павшего от руки собственного брата, его сожгли в погребальной ладье, и врата мира мертвых закрылись за ним, чтобы никогда больше не открываться. Хотела бы я знать, Дэниел, что в тебе ненавидит меня так сильно… а может, просто узнает?.. Ты так любил эту чертову историю, - тонкие губы Хель складываются в горькую усмешку, - И так хорошо знал, как сильно я ненавижу ее, что не мог не вспомнить об этом сейчас, верно? Хорошая шутка тебе всегда была дороже всего, что когда-либо ценил другой мужчина, дороже женщин, любви и семьи. Поэтому мы никогда не ладили.
Она не говорит того, что собиралась; созревшие было фразы сгорают в отголосках огня, в котором исчезла нарисованная омела: слова о ненависти, готовые уже было сорваться с языка Хель, утекают сквозь давнишние трещины и становятся частью тех воспоминаний, которые теперь, когда последний отклик едкой гари уже рассеялся и скрылся в сложной молекулярной сети наполнявшего квартиру прогорклого воздуха, кажутся лишь далеким эхом прошлого. Хелене Влах говорить с Дэниелом Стэнтоном о том, почему Хела ненавидела Локи, незачем - он все равно не поймет ее. Одна рука Хель, чистая и белая, берет Дэниела за кисть; длинные пальцы, похожие на когти большой хищной птицы, с равнодушной силой, странной для столь хрупкого женского тела, плавно оборачиваются сначала вокруг шероховатых прохладных костяшек, мимолетно, успокаивающе гладят обтянутую кожей кость, а затем механической, лишенной ласки хваткой смыкаются на запястье. Кончиком короткого ногтя, так, чтобы не запачкать одежды, Хель проворно закатывает рукав, обнажая картографически изборожденную витыми дорогами вен руку.
- Моя мать была язычницей, - еще раз повторяет Хель, и рука ее, удерживающая запястье Дэниела в одном положении, угрожающе сжимается железными тисками, - И время сделало меня похожей на нее.
Измазанный копотью палец ложится на чистую кожу руки чуть пониже локтевого сгиба и ведет вниз, не отрываясь: короткое быстрое движение, прежде чем прерваться, оставляет после себя ровный черный след, слой за слоем снимает маркую черную грязь с длинного острого пальца и обнажает белую сердцевину. Еще два движения безымянным и средним пальцами - небрежный рисунок, похожий на отпечаток куриной лапы во влажном песке.
- Лосиная осока, что на болоте обитает, - железная хватка разжимается, и костяной холод пальцев медленно оттаивает в такт быстрому биению пульса под тонкой преградой кожи, - Кровь всякому пускает, кто её схватит, - Хель мягко, грустно улыбается, - В прошлом ты, Дэниел, нажил себе так много врагов, что их хватило бы на несколько жизней. Но я - не враг тебе, во всяком случае, не сейчас, не сегодня и не завтра. Ты сохранил мою визитку?.. Хорошо. Сделай для меня кое-что. Я хочу, чтобы ты как можно скорее доехал до моего офиса. Сегодня, завтра, не позднее. Тебе не нужно оставаться здесь, не теперь. Ты никого не встретишь, кроме, быть может, высокой женщины, но и она... не беспокойся, если тебе вдруг покажется, что она не видит тебя. Не удивляйся, Дэниел. Не удивляйся, и все пройдет.
* * *
Спустя несколько часов, минувшие с того момента, когда дверь квартиры Дэниела закрылась за Хель, и вымерзшие до основания улицы города поглотили ее, небо над Нью-Йорком стало непроницаемо черным, обуглилось и натянулось, как кожа на раздутом изъязвленном теле больного чумой, и острые рубцы прорех в густом тумане облаков напоминали в болезненном жёлтом свете фонарей покрытые гноем бубны, готовые прорваться зловонным грязным дождем на столь же зловонные и грязные дома.
Сверху беспорядочная карта района, нанесённая на изношенную черную землю, давно уже не видевшую солнца, напоминает трещины, оставленные в вечной тектонической плите землетрясениями и течением времени. Дома подступают друг к другу, жмутся со всех сторон, словно каменные столбы, покрытые порослью черных окон и крошащихся железных лестниц: с боков их, словно рыбы-прилипалы, сопровождают мусорные пакеты и массивные железные баки, заполненные нечистотами самых разных форм и размеров. Тут и там переплетения мелких улиц обрываются, соединяются друг с другом и вливаются в пустынные перекрёстки, на плоских, уродливых лицах которых лежат сизоватые клочья тумана, и сквозь острые прорези, проделанные в них ветром, видна выщербленная дорога, причудливо сшитая из четырехъязыкого извивания боковых переулков.
Глубокая ночь стоит над перекрестком, извиваясь в остром болезненном приступе, близком к экстатическому или религиозному, и рыхлое ее тело крупно вздрагивает и сотрясается, как от пульсации крови где-то в глубине каменных вен - от громких ударов каблуков, разносящихся по гулкому колодцу как пистолетные выстрелы. Медленная острая дробь, прокладывающая себе путь сквозь молочные клочья тумана, через отдаленный переклик хриплых человеческих голосов, на разных языках переговаривающихся о чем-то неясном, одним им только и ведомом, разбивается о закрашенные черным окна и исчезает неясным эхом. Человек стоит в тени одного из зданий, привалившись к влажной, дурно пахнущей кладке, густо вымазанной в черной краске из баллончиков уличных художников, и разреженный свет единственного рабочего фонаря, освещающего узкое пространство перекрестка, падает на него густым неразменным потоком желтого света. Человек держит в зубах прикуренную самокрутку, и сладковато пахнущий едкий дымок, открывающийся от ее алого кончика, тонкой нитью тянется вверх и исчезает в густой первобытной тьме. Вокруг человека стоят ещё трое - нервно переминаются, пританцовывают, выдувают облачка пара и изредка оглядываются. Звук шагов, слишком быстрых и громких, чтобы их можно было оставить незамеченными, заставляет всех троих переглянуться и мысленно взмолиться о том, чтобы сделка поскорее завершилась. Они еще почти дети, подростки с лихорадочным блеском в глазах и подобострастным выражением лиц; все трое, очевидно, нелегалы, а может и впрямь - законные обитатели Куинс, и ни один из них еще не разменял второй десяток.
Шаги становятся громче, их молчаливая барабанная приближается; человек быстро затягивается и красивым, отточенным до филигранной точности жестом достает из-за пазухи своего длинного «дутого» плаща крошечный серый конвертик. Шаги замедляются где-то за тончайшей стеной ночного тумана; под фонарем происходит торопливый и несколько неловкий обмен деньгами, и когда влажная морось, причудливо раскрашенная рыжими пятнами света, расступается, выпуская высокую худую женщину в шерстяном черном пальто, подростки выглядят вполне довольными собой.
- Якатекутли, - невыразительным голосом зовет женщина, изваянием застыв в нескольких шагах от подростков и прислоненного к стене мужчины.
Тот ловко прячет приобретенную наличность туда, где ранее был конвертик, и поднимает голову; он носат до такой степени, что кажется, будто у него нет ни рта, ни подбородка - один только громадный клюв, похожий на птичий, заостренный и странно угрожающий.
- Ебать, - высоким тонким голосом произносит один из подростков, с любопытством стрельнув бегающим смазанным взглядом в сторону высокой женщины. - Вы тоже собираетесь затариться, дамочка? - подростки разражаются нервным лающим смехом.
- Не выражайся, - ровным назидательным тоном командует человек, безотрывно рассматривая маленькими черными глазками замершую в каменной неподвижности женщину. - И проваливайте наконец с моего перекрестка.
Только когда люди торопливо скрываются в одном из четырех боковых ответвлений каменного колодца, человек отходит от стены и делает несколько быстрых танцующих шагов прочь от расплывчатого пятна фонарного света; становится видно, что он невысок, даже приземист - на голову, а то и больше ниже вытянутой фигуры женщины в черном.
- Занятно, - говорит человек, щелчком пальцев отбрасывая скуренный косячок в сторону мусорных баков и тут же принимаясь шарить по карманам в поисках нового.
- Тебя очень просто найти, - столь же бесцветно произносит Хель, из-под опущенных век рассматривая рыжевато-коричневый профиль прикуривающего от пластмассовой зажигалки Якатекутли.
- Вот уж точно. Не то чтобы я очень уж скрывался, дорогуша, - он не рискует подходить ближе. Застывшее лицо женщины внушает ему неприязнь вполне определенного рода, и его громадный «клюв» будто бы против воли трепещет ноздрями, улавливая отдаленные отголоски запаха гниющей плоти даже за неизбывным зловонием улиц и сладковатой вонью марихуаны. - Торговля, видишь ли, неплохо поддерживает меня на плаву, так что было бы странно, если бы я шарился по углам, как некоторые. Не в обиду… Ты поболтать или по делу? Может, сторгуемся? - Хель знает, что он спрашивает это только из странных представлений о вежливости, заменяющих ему инстинкт самосохранения. Мертвецы не торгуют даже костями, этого не знает только слепец.
- Не стоит. На самом деле, я все еще ищу кое-кого, и мне бы хотелось, чтобы оказал мне помощь.
* * *
Час быка все длится и длится, и нет ему конца, и рассвет, столь поздний в это время года, не кажет себя даже малейшим обещанием зарниц; небо все так же темно, все так же пятнисто и уродливо, когда эта чудовищно неравная пара выходит на огни горящих окон, как два корабля на светлый зов маяка. Насмешливая, почти скабрезная вывеска над дверью стиснутого по бокам здания, гласящая: «Миктлан и Жена» - чуть покачнулась взад-вперед, когда Якатекутли с лицом, на котором читалось выражение тщательно скрываемого недовольства, дернул на себя дверь и, не потрудившись пропустить Хель вперед, нырнул внутрь.
Внутри бюро стоит знакомый Хель запах цветочных венков и формалина, но она знает: это место так же далеко от ее покровительства, как, скажем, Африка далека от Сибири. Приглушенное освещение в холле и мягкий полумрак коридоров не скрывают яркого желтого света, пробивающегося из-под двери, ведущей в хозяйский кабинет, и Якатекутли отрывисто кивает на нее, явно испытывая непреодолимое желание как можно скорее убраться отсюда. Однако когда в ответ Хель делает быстрое движение головой из стороны в сторону, он, сцепив зубы, проходит вперед, трогает пальцами гладкую железную ручку, поворачивает ее и тут же отдергивает ладонь, словно обжегшись. В воздухе, словно предвестник прозвучавших через мгновение слов, повисает короткое эхо гулкого щелчка.
- Кому как не тебе знать, что являться без приглашения невежливо. Проходи. Не задерживай нас.
Хель переступает порог, хотя все в ней восстает против этого. От повелителей Миктлана пахнет плотью отнюдь не гниющей, и этот запах - густой алый дух свежей крови и нежной пузырящейся корки на освежеванных человеческих мышцах - налетает на нее упругой горячей волной. Все вокруг: дорогие кресла, толстый ворс ковра, бесчисленные книги и старинные ацтекские мозаики, вставленные в рамы и защищенные толстым музейным стеклом - пропитано этим запахом и источает его каждой своей молекулой. Но ни единый мускул на застывшем мрачном лице посетительницы не вздрагивает в тот момент, когда навстречу ей распахиваются пахучие и теплые женские руки, и когда эти руки обвивают ее шею, и когда полные мягкие губы, скрывающие бритвенно-острые зубы каннибала, касаются ее ледяной щеки.
- Не думай, что мы не рады тебе, Хель. Мы всегда рады видеть дорогих конкурентов, однако… - картинное прикосновение наконец заканчивается, и женщина отходит обратно вглубь комнаты. Движения ее рыхлого золотистого тела похожи на причудливый танец большой сонной змеи, зачарованной флейтой укротителя, а огромные черные глаза, близко посаженные к изящно вылепленному, выдающемуся вперед прямому носу, отсвечивают яркими красноватыми отблесками.
- Однако нам странно видеть тебя, - в тон ей произносит сидящий в кресле мужчина. На столе рядом с ним стоит огромная клетка, в которой, мрачно вперив в Хель бессонный немигающий взгляд, сидит сова с серовато-коричневым оперением. Худое, костистое лицо мужчины напоминает облепленный рыжей глиной череп, а глаза, выглядывающие из-под голых надбровных дуг, кажутся еще более черными, чем глаза женщины. - Ты всегда дорожила своим нейтралитетом. Что привело тебя сюда?
- Якатекутли, - кратко, почти невежливо отзывается Хель, деревянным шагом проходя следом за Миктлансиуатль и присаживаясь в мягкое алое кресло напротив супругов.
- Да, разумеется. Барыга, - со странным блеском во взгляде откликается женщина, присаживаясь покатым полным бедром на подлокотник кресла и позволяя мужу рукой обвить хищный излом своей талии. Ее улыбающиеся губы словно бы вымазаны кровью.
Одни из немногих древних покровителей смерти, повелители Миктлана нашли в Нью-Йорке удобное пристанище и благодарных почитателей; мексиканцы, впрочем, всегда были на удивление живучи, и Миктлансиуатль, почести которой еще до сих пор возносятся в Куинс и за его пределами на Día de Muertos, все еще пышет небывалой для подобного мерзкого божка силой, а Миктлантекутли был, есть и будет слишком кровожадным для того, кто по всем канонам не должен более знать жертвоприношений. Но все же - эти двое не опасны в той степени, в которой опасны многие другие из бродящих по этому проклятому городу существ.
- Как любопытно, - тянет Миктлантекутли, поглаживая выступающие линии челюсти и показывая намек на острые зубы, - Должно быть, случилось что-то выдающееся, раз уж ты явилась сюда, превозмогая брезгливость, верно?..
Его жена издает тихий смешок.
- Птицы поют, - мелодичным голосом подхватывает она, - Что в городе недавно видели твоего отца, не к ночи помянутого.
- Не знала, - ледяным тоном отвечает Хель, - Что вы интересуетесь слухами.
- Не слишком, - это муж. В отличие от своей сладкоголосой женщины, Миктлантекутли говорит ровно, без малейшего намека на какие-либо чувства, кроме скуки. - Но этот город слишком мал для всех нас, а твой отец насолил многим.
Хель молчит не меньше минуты, нечитаемым мрачным взглядом рассматривая неподвижно сидящую в клетке сову, прежде чем отрывистым тоном произнести:
- Я не видела Локи давно, но и этого не было достаточно для того, чтобы забыть, каков он, - и она почти не лжет, - Однако я тоже знаю, что он в городе, и знаю ещё также, что вместе с ним приходит опасное время.
- О… - радостно выдыхает Миктлансиуатль, сжимая холеной полной рукой костистое плечо супруга, - Как прекрасно, что ты наконец сказала, зачем пришла. Но ты ведь знаешь, что мы не дарим подарки, верно, Хель?
- Прекрасно, - эхом откликается Миктлантекутли, с хищным прищуром подаваясь вперед в тот момент, когда Хель нехотя кивает. - Тебе не пришлось бы приходить сюда и заключать с нами сделку, не будь ты столь щепетильна. Даже тот франт с Манхэттена добывает себе блага жизни ловчее и изобретательнее тебя, так что, полагаю, ты не обидишься, если мы предложим тебе на год отдать Бруклин в наше распоряжение. Отдохни. Закрой свой «Золотой мост» всего на несколько месяцев, мы справимся с мертвецами твоего боро и без тебя. Как насчет того, чтобы сделать это перед Рождеством?.. Мы начнем с года и посмотрим, как многого сможем достичь.
Кулаки Хель медленно сжимаются и тут же разжимаются в жесте, полном злобного бессилия; перед ее внутренним взором, смертельно опасная, как знамение смерти, встает ветка омелы, а следом за ней непрошенной болью приходят глаза - те глаза, в которых прошлое намертво сплавилось с никогда не существовавшем настоящим. Этот год уничтожит ее, раздавит все, что она когда-либо знала, если только ей хоть на мгновение вздумается вообразить, что это не так, и что повелители Миктлана в своей кровавой жатве смогут причинить городу вреда больше, чем непременно причинит беспамятный Локи и сама она - бессильная ныне Хель.
- Как много? - помертвелым голосом произносит она тогда. Чудовища напротив нее ласково улыбаются друг другу и одним голосом, в едином великодушном порыве говорят:
- Столько, сколько попросишь.
* * *
- Мы закрываемся перед Рождеством.
Хель говорит это, глядя в умиротворенное лицо Мод, когда они сталкиваются в дверях похоронного бюро несколькими часами позже. К тому времени, когда изможденная, измученная запахом человеческой крови и потрясениями двух бессонных ночей, Хель вернулась в свою крошечную квартиру, расположенную этажом выше над «Золотым мостом», серость нового дня уже успела обрести знакомую ртутную насыщенность и - отвратительную фотографическую точность.
- Разумеется, - безмятежно откликается Мод. Ее бледное пятнистое лицо с широкой прорезью рта обращено к стылому свету улиц. - Мы делаем так каждый год.
- Нет. Не в этот раз. На будущий год нам обеим придется подыскать себе что-нибудь другое…
- Ты сошла с ума, Хель, - Мод качает головой, и ее блеклые голубые глаза, цветом напоминающие вылинявшую ткань старых джинсов, поблескивают острыми ледяными вспышками. - Это всего лишь сила. Не знаю, для чего она тебе, но это не стоит сделки с людоедами, чем бы оно ни бы…
- Я пойму, если ты решишь не возвращаться. То время, когда тебе приходилось быть стражницей при мне, давно уже прошло.
Массивные и тяжелые, как два стальных молота, кулаки Мод сжались; две белые тонкие брови, как бы случайно наметанные на обветренный розоватый лоб, сошлись к переносице. Секунда, другая - и эта чудовищно высокая мускулистая валькирия, покатым плечом оттолкнув хозяйку, быстрым строевым шагом бросается к двери.
- Мод!
Не отвечает. Замирает у двери на мгновение, сдергивает с крючка куцую джинсовую куртку, неуклюже просовывает руки в рукава. Треск. Ткань рвется, Хель вздрагивает - крупно, беспомощно, как вздрагивала когда-то в детстве от треска деревьев, рушившихся под гневом великанов. Дверь открывается, относя запах венков и разложения куда-то вглубь помещения.
- Модгуд!
Великанша вздрагивает, словно копируя жест самой Хель, и оборачивается, не в силах противиться звукам этого голоса, произносящего ее собственное имя.
- Спасибо за то, что была со мной, - Хель поднимает руку и замирает так, словно пораженный проклятием соляной столп.
Дверь с треском захлопывается; мелодично звенит колокольчик. Запах цветов и гниющей плоти качается из стороны в сторону у раздела со стылым уличным воздухом, прежде чем просочиться в него и вновь заполнить все помещение от пола до потолка белым погребальным саваном.
Она стоит, опустив голову и уронив руки вдоль тела: облаченная в черное вдова никогда не существовавшего человека посреди медленного увядания и бесконечной смерти. Стоит, стоит, стоит замерши - и ждет.
[nick]Helena Wlach[/nick][status]Hel[/status]