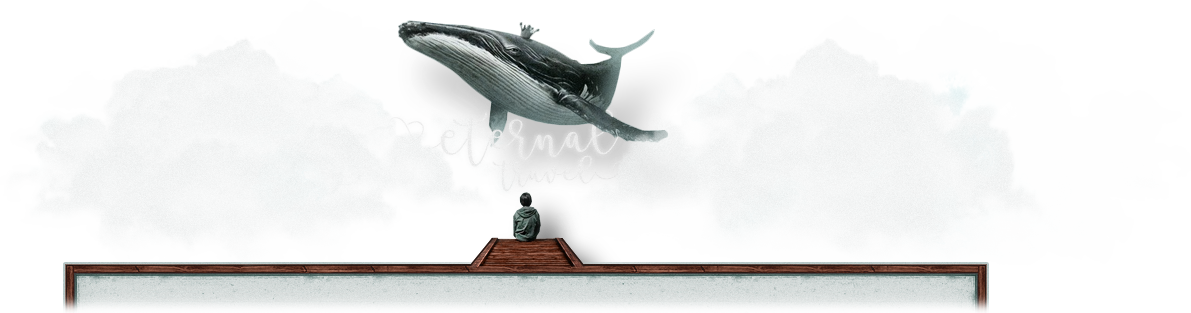ОСНОВНОЙ НИКНЕЙМ:
АктайПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ЖАНРЫ|ФЭНДОМЫ:
– Фентези;
– Средневековье, история/псевдоистория;
– Реал, детектив, криминал;
– Мистика, мифология, способности, магия;
___________– Dragon Age;
– Ведьмак;
– ПЛиО (преимущественно до событий основной саги: завоевание Вестероса, восстание Баратеона);ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПЕРСОНАЖИ:
– Ведьмак: Геральт из Ривии, Детлафф ван дер Эретайн, неканон;
– Dragon Age: Айдан Кусланд, Фергюс Кусланд, Блэкволл, Гаррет Хоук, Максвелл Тревельян, Мэрик Тейрин (после освобождения Ферелдена), неканон;
– ПЛиО: Эйгон I Завоеватель, Роберт Баратеон (восстание), неканон;
– Красавица и чудовище: Чудовище (сказка, а не кино/мультфильм);СВЯЗЬ:
ICQ, Телеграм по запросу. Всегда доступен в ЛС.НЕМНОГО О СЕБЕ:
Только третье(!) лицо. Пишу в среднем 4-5к, могу меньше и чаще, могу больше. Скорость до 3-4 постов в неделю. Не против спидпостинга. Не играю с дайсами. Люблю экшн, драму, бой (особенно средневек), одинаково люблю гет и слеш. Играю только мужскими персонажами. Тройку перестал использовать, но против вашей ничего не имею.ЗавоевательВозможно, он и был тем человеком, что поставит на колени семь королевств, но для того, чтобы поставить на колени его самого, всегда хватало лишь улыбки Рейенис Таргариен. Эйгон любил ее горячо и безумно, не логично, пылко. Такая любовь не подобает королю. Любовь, которая напрочь лишает его рассудка, превращая из завоевателя в обычного мужчину. Его любовь к Висенье была другой. Спокойной, уверенной, теплой. В её объятиях Эйгон всегда мог найти тихую гавань и утешение, в которых разум успокаивался, обретал твердыню. В них же можно было ни о чем не думать, ища тишины.
Эйгон прикрыл глаза, сдвигая светлые густые брови к переносице; когда он хмурился, на лбу пролегала глубокая морщина, а на переносице заламывалась складка сдержанного неудовольствия, сосредоточенности. То, о чем говорила Рейенис, всегда волновало его, причем слишком сильно. Ее слова о их брате Орисе были направлены на то, чтобы Эйгон еще раз понял – она не должное, не данность. Что эта женщина не приложение к нему, королю, не аксессуар, не привычное дополнение к завоевателю в виде пышногрудой любовницы. Она – законная жена и женщина, ради которой можно завоевать весь мир, от востока до запада, от севера до юга. Но к тому моменту, когда она произносит имя его лучшего друга и единокровного брата, Эйгон уже не безумен в своем пылающем ревностном гневе. Он снова, с привычной своей хладнокровностью и проницательностью, осознает, что его жена лишь дразнится. Этой женщине не страшно будить дракона, она с легкостью тушит все его пожары.
Его воля лишь на секунду дает слабину, когда Рейенис прикасается своими полными и теплыми губами в едва уловимом поцелуе. Король никогда не любил подобные трепетные прикосновения; он всегда целует жену жадно, сминая ее губы и требуя большего. Его никогда не устраивают эти мимолетные поцелуи. Но сейчас, в тени узкого коридора, в глуши подальше от шумного пира, он не смеет прервать этого. Пожалуй, оно так же приятно, как и мучительно.
Пальцы Рейенис нежные и тонкие, порхающие, не смотря на то, что умеют держать меч, прикасаются к его мозолистой руке, вынуждая поднять ее. Король не сопротивляется. Он поднимает ее, опуская широкую ладонь на бок жены, ощущая под зеленым шелком тепло ее кожи, и огрубевшие пальцы сами скользят верх, пересчитывая ребра и опускаются на упругую грудь, стянутую корсетом. Чертова дань моде. Эйгон терпеть не может все эти стягивающие ремешки и шнуровку, что скрывают ее тело под одеждой.
Король поднимает взгляд темно-лиловых глаз от груди к ее лицу, почти с укором глядя в глаза. Зачем ты говоришь о нашем брате, когда я прикасаюсь к тебе? Эта мысль почти выводит из себя. Ему почти кажется, что Орис сейчас рядом, третий в их игре, и ему с трудом удается вытолкнуть его из своей головы. Эйгону не нравится думать об этом, а его жена только дразнится. Он уверен, Рейенис хочет знать, разорвал бы ее брат своего единственного и лучшего друга из-за нее? Вопрос этот блуждает и в его голове, даже когда король старательно пытается избавиться от него. Ответ на этот вопрос они знают оба, и Эйгону он не нравится. Он прекрасно знает, что за нее, за Рейенис, убьет даже Ориса, каким бы чудовищным и жестоким не казался им обоим этот поступок.
Я не люблю делиться, Рейенис. Ты же знаешь.
Разум снова путается, когда жена запускает пальцы в его волосы, обжигает дыхание шею и ухо. Он чувствует, знает, что она улыбается: чуть заметно изогнулись ее полные губы в тень улыбки, только намек. Ее шепота Эйгон почти не различает, не осознает, что именно она говорит, потому что сам король целиком в своих собственных мыслях. Ему надоело болтать, надоело ревновать и злиться. Пожалуй, сейчас он и не король вовсе, потому что среди всех желаний, бушующих в нем, как неспокойное сердитое море, сейчас горит только одно, в котором он хочет овладеть сестрой прямо сейчас, в узком коридоре замка у каменной стены, не опасаясь, что кто-то может их заметить.
- Чего ты хочешь?
Заданные ею вопросы поздно доходят со сознания Эйгона, и только тогда он спрашивает, хрипло в самую шею, готовый рычать от нетерпения. Он знает, что Рейенис не позволит ему ничего больше этого прикосновения, в котором он сжимал ее грудь сквозь шелка. Вот так просто, не позволит своему королю и мужу. Просто потому, что так хочет.
Она всегда умела добиться своего. Даже когда они были детьми. Он помнил, когда Рейенис широко улыбалась, звонко смеясь, и просила достать с дерева грушу, самую верхнюю. И Эйгон, конечно, достал. Содрал руки, пока лез по веткам, чтобы достать спелый фрукт, который она даже не любит. Просто потому, что так захотела его сестра.
- Не говори о таких вещах, Рейенис. Молчи. Молчи, - хмуро сказал Эйгон, словно только что очнулся, словно ее слова разбудили его. Он видит, что во взгляде жены пляшут черти, что на дне ее лиловых глаз тлеют угли, что она шутит и играет. Всегда так играет, опасно, на грани, даже сама не понимая, зачем. Он никогда не был суеверным, но произнесенные вслух слова «я обещаю, что умру первой» почти пугает его. Вдруг боги услышат это обещание и исполнят его? Зачем, черт возьми, ты говоришь об этом, ты знаешь, боги тоже любят играть, ведь за столько веков они заскучали, им ничего не остается, кроме этих игр. Зачем ты говоришь такое, ведь один из богов, особенно любопытный, может услышать тебя, захотеть сыграть в эту игру. И что тогда буду делать я, если они начнут играть? Я могу поставить на колени семь королевств, но не смею даже молить своих богов о подобной милости. Мои боги не любят молитв, ты же знаешь. Они все семи решают.
Король в неудовольствии мрачно смотрит на нее, когда она вдруг вырывается, затопив коридор глухим игривым смехом, подхватывает низы своего платья и врывается в тень, отстраняясь от него все дальше. Догони меня. Словно им пять лет, она играет. Так же, как делала это в детстве, бежала от него по этим самым коридорам, не взирая на сдержанные замечания нашей матери, в которых она всегда пыталась скрыть улыбку. И она бежит, скрываясь за очередным поворотом, оставляя ему, Эйгону, только отголоски своего звонкого смеха.
Таргариен остается один в смятении, спокойный о хладнокровный снаружи, как и всегда, убеждая себя в том, что уже не станет бегать по коридорам, словно ребенок. Но вдруг замечает, что уже бежит, бесшумной рысью следуя за своей сестрой, рассекая темноту коридоров по ее горячим следам, замечая лишь, как за новым поворотом исчезает блеск зеленого шелка. Он не медлит, вспрыгнув на спину мирно дремлющего Балериона без седла, оглаживая мозолистой ладонью черную жесткую чешую и вынуждая дракона взмыть ввысь, врезаясь во влажную густоту ночного воздуха. Где-то внизу недовольно заворчала Вхагар, но Эйгон уже летел высоко и крылья Балериона скрывались в ночной густоте черного неба. Луна стыдливо пряталась за тучами, но тем не мене, проглядывая сквозь облака, отсвечивала чешую Мераксес серебром. Эйгон видел дракона сестры вдали, неуемно следуя за ней и не пытаясь обогнать. Черный Ужас издал пронзительный вопль, выдыхая тяжелый пар, и Таргариен едва заметно улыбнулся, оглаживая шею своего дракона. Когда-нибудь они вот так же вторгнутся в Семь Королевств и заставят лордов преклонить колени перед ним, будущим королем Вестероса. И рядом с ним будут Висенья и Рейенис.
Мераксес рванула вниз, и Эйгон с Балерионом нырнули следом; Черный Ужас всегда пикировал вниз головой, когда снижался, и ничего более захватывающего молодой дракон в своей жизни не видел. Они опустились почти бесшумно, подняв облака влажной пыли, когда Балерион ступил когтистыми лапами во влажную траву, и Таргариен спрыгнул со спины своего дракона, неровно дыша. Он и не подозревал, как сильно хочет сбежать с этого пира, пока не взмыл вверх вместе с Балерионом. Но, кажется, Рейенис это знала даже лучше него самого.
- Иди сюда, - шумно дыша, сказал Эйгон, приближаясь к сестре, и поймав ее за худое запястье, дернул к себе, крепко обхватывая за узкую талию, - И почему ты всегда стремишься сбежать от меня, сестрица?ФотографОн хохотал. Рвал легкие и горло в клочья, не замечая, как солнечное сплетение стягивает спазмом от нехватки воздуха. Как горят уши и затылок от жара и бегающих по коже волнительных, сумасшедших мурашек, в то время как взбунтовавшийся ливень колотил его в плечи и лопатки, пропитывая снова и снова насквозь вымокшую одежду. Холод не пугал и не имел никакой власти, настойчиво ластясь к коже. У него не было оружия кроме игл озноба и порывистого ветра, и каждая из них ломалась, встретившись с разгоряченной кожей. Сердце бешено грохотало в глотке, уши закладывало от шума собственной крови в черепе. И от грохочущего над головой неба.
Маци облокотился на обшарпанную кирпичную стену, потому что бок нещадно кололо. Словно кто-то вогнал ему кухонный нож под ребра. Тяжело дышал, раскрыв лопнувшие сухие губы. И слушал, как сквозь всполох молнии и грохота черных небес ночь рвет смех незнакомца. Изумительно настоящий, совершенно незвучный, «некрасивый». Джек стоял там, в этом переулке, с пустой и легкой головой, уставшей улыбкой, словно кто-то сорвал с его шеи цепь, годами врезающуюся в кожу, и смотрел на этого человека, чьи глаза живо искрились лазурью в густой темноте сентябрьской ночи.
Боже мой. Боже. Боже! В груди что-то колотилось, отдавало в горло бешенным ритмом. Внутри что-то дышало. Рвано, тяжело, сумасшедше. Что-то настоящее, никотиновое и пьяное. Что-то живое, горячее. Что-то, что существует взаправду. Боже. Он совсем забыл, что там что-то есть. В грудине, что-то красное, что-то больное, изъеденное усталостью и этим городом. Что-то, что еще может заставить его смеяться по-настоящему. Что-то, что может заставить его захотеть смеяться.
Он ухмыльнулся, замечая в глазах Грейса живые искры. В его улыбке было что-то кошачье, игривое и простое. Что-то такое, чего он очень давно ни в ком не видел.
- Да что ты? Сто лет не слыхал таких комплиментов, - улыбнулся, обнажив в оскале правый клык. Осмотрелся вслед за Винсентом, поднял глаза к небу, отстранившись от стены. – Кажется, это седьмая улица.
Лондон он знал как свои пять пальцев, особенно старые кварталы и узкие улочки, в которых столько раз курил, трахался и блевал. Эти улицы, если подумать, были роднее той квартиры на последнем этаже, которая была для них с Бьянкой домом.
- Чутье меня не подводит, - ответил Маци, глядя, как его новый знакомый, спрятав руки в карманы, словно это могло спасти его от холода, двинулся в новом направлении. И остановился.
Джек не улыбнулся. Он не ждал, что Грейс попрощается или даже позовет с собой. Но себе солгал, что ему все равно. Маци очень любил, когда ему все равно, даже если это неправда.
- Сейчас, - крикнул он через улицу, - только отолью.
Грейс уже скрылся и грохот грома заглушил его шаги по лужам. Маци прикрыл глаза; на ресницах дрожали крупные капли дождя, срывались, катились по лицу и горлу. Глотку рвало от боли, пустой желудок свело тошнотой. Он содрогнулся, упершись в стену ободранной ладонью, спазм скрутил внутренности и его вырвало текилой, бурбоном, сандвичем, оставив во рту вкус желчи. Собственный организм отторгал то живое, что иногда напоминало о своем существовании за грудиной.
***
Ночные прогулки под проливным дождем с малознакомым человеком не смущали его. Темные редкие фигуры, попадающиеся по пути, сторонились их. Грейс шел впереди, совершенно рассеянный и забывчивый, словно бы голова его занята совсем не мирскими проблемами. Пару раз свернули не туда и Винс останавливался, что-то бормотал, и шел в другую сторону. Маци не слушал. В голове забвением повисла тишина, словно пустота в черепной коробке застекенела. Было хорошо.
Он шел вслед за кошачьим вокалистом (так он прозвал его про себя), опустив руки в карманы вымокших джинс. Дрожь прошла вместе с тошнотой. Холод не кусался. Напротив, разверзнувшийся ад над их головами, этот хаос, ввергающий других людей в панику, успокаивал Маци. Словно бы только в хаосе, холоде и пустоте он мог чувствовать себя комфортно.
Джек рассматривал кованные балкончики домов, блестящий черный асфальт под ногами. Прикрывал на мгновение глаза, ощущая, как тяжелые холодные капли дождя бьют в лицо. Тишина, разрываемая грохотом небес, не смущала его. Молчать было удобно и даже приятно.
Старый, ржавый фонарь, замаячивший впереди, словно выхватывал часть улицы в свое оранжевое тусклое царство. Лампа слабо подрагивала, точно не решалась погаснуть именно сейчас. Может, именно в следующую ночь она не зажжется, а пока…
Маци остановился, поднимая лицо вверх, к крыше здания. Старый кирпичный дом выглядел угрюмо и одиноко; что-то его самого роднило с этим кирпичным монстром, полным штукатурки и ржавчины. Странный выбор жилища для «рок-звезды». Мужчина стоял неподалеку, ощущая нервное мигание фонаря на своем лице, и смотрел на Грейса. В отличие от Джека, его явно потряхивало от холода. Узкие губы заметно посинели, дрожали, а узловатые пальцы плохо попадали по кнопкам домофона. Маци же холода не ощущал. Да, зябко и сыро, но замерзшим Такер себя не чувствовал. Он уж собирался было спросить о ключах, когда дверь с мозгодробительным скрежетом поддалась, впуская их внутрь.
Старый лифт, не внушавший доверия, поднял их на последний этаж. Звон ключей в непослушных, замерзших пальцах, недовольное бормотание (а может, послышалось?), и квартира, наконец, позволила им войти внутрь. Маци сразу почувствовал запах бумаги, бергамота и дерева. Очень простые запахи, способные многое рассказать о том, кто здесь живет. Тепло тут же забралось к нему под футболку, прижалось к груди. И только сейчас, стоя на пороге и капая на пол, стал осматриваться. Совершенно обычная квартира. Паркет, на стенах простая краска. Привычный беспорядок, теплый свет лампы под потолком. В центре широкий диван с клетчатым пледом. Журнальный столик завален книгами, какими-то журналами. Грязная кружка. Которая, к слову, не вызывала желание ее помыть. Маци инстинктивно поднял руку к груди, где обычно висела на ремне камера.
На слова Грейса он ответил кивком, не сразу начав снимать с себя кожаную куртку. Ее он повесил на вешалку у входа, оставив воду стекать вниз, на чужую еще сухую обувь. Свои ботинки снял без особой элегантности, проходя в комнату, и наткнулся взглядом на спину Винсента. По коже вились узоры татуировок. Торчали острые позвонки. Но лопаткам стекла еще одна холодная капля воды. Из-за холода он казался еще более худым, чем был на самом деле.
Дверь ванной комнаты щелкнула, скрыв в своем периметре хозяина квартиры, и Маци остался в тишине. Он осмотрелся еще раз, не заостряя внимание на деталях, стянул с себя вымокшую черную футболку, отжав ее прямо на пол и развесил на спинке стоящего неподалеку стула.
Небольшая, аккуратная кухня, являющаяся частью гостиной, пребывала в таком же ласковом хаосе, как и вся квартира. На столе громоздилась стопка журналов, на полотенце – давно высохшая посуда, которую никто не убрал. Зачесав назад мокрые волосы, включил чайник. На холодильнике он заметил старый радиоприемник. Включил его, покрутил немного. Поймал волну тоскливого блюза 30-х годов, который всегда по-особенному согревал душу.
Пара журналов рухнули со стола на пол, Маци резко обернулся. На столе сидел полосатый кот и смотрел на него огромными желтыми глазами.
- Любишь блюз, приятель? – спросил его Джек, подходя ближе. Огрубевшие пальцы ласково растрепали уши, выгладили шею, получив в ответ мерное урчание. Мужчина едва улыбнулся. – Прекрасный вкус у тебя. Я тоже люблю хорошую музыку.
***
Чайник ненавязчиво кипел, булькая, но свистеть еще не начал. Маци, склонившись над газовой зажженной конфоркой, прикуривал один из свертков с травкой. Заботливо завернутые в пакет и спрятанные в кармане, они остались сухими. Кончик легко вспыхнул, травка задымилась. Джек втянул дым поглубже, ощущая на языке привычный сладкий вкус, который терпеть не мог, и выпрямился, не сразу выдыхая. Его новый знакомый кот хрустел сухим кормом. Коробку с название «Мой любимец» он нашел со второго раза и щедро насыпал в миску голодному животному, при этом неаккуратно рассыпав часть по полу. Коробку оставил там же, на полу, и сам, опершись о кухонную столешницу поясницей, без пешки курил. Душу ласкал грустный блюз, потрескивающий из старого радиоприемника, и на несколько мгновений он забыл, что находится в чужой квартире. Пока шум воды не стих и открывшаяся дверь не выпустила в клубах пара хозяина жилища. Маци немного поморщился, когда дым стал щипать глаза, отнял ото рта сверток, сжимая его между большим и средним пальцами. И спросил:
- Будешь?
Вместо ответа пронзительно засвистел чайник.УбийцаСегодня он Том. Томас Грант Младший, если быть точным. Вытертые джинсы, удобные разношенные ботинки, рубашка в клетку темно-синего цвета и легкая коричневая куртка из кожзама. Старые отцовские часы, открывающийся шрам над губой, когда он сбривает бороду, темные глаза, благодаря линзам вместо очков. Он не красив, но его уверенная, открытая улыбка и прищуренный взгляд карих, хмельных глаз, заставляет молодого мужчину податься навстречу. Они выпили пару глотков пива и теперь он целует Томаса, потому что это Америка, потому что вечер, потому что это – гей-бар. И потому что Том совсем не против такого внимания.
Сегодня он Грант, потому что быть Гордоном почти невыносимо. Столь мучительно, что кости, кажется, трещат от перенапряжения; мышцы налились свинцом, нестерпимой тяжестью, невыносимой, болезненной истомой, такой сильной, что уже тошнит. Да, черт возьми, именно тошнит, потому что эти запахи бьют в ноздри, терзают, рвут рецепторы, заставляя его мучительно вскипать. Айзек Гордон стал невыносимо тесен и он захотел стать Томасом. Потому что Томас свободен в своих желаниях, потому что от Томаса Гранта ничего не ждут. Он покупает билет на автобус до соседнего города, взяв лишь немного денег и спортивную сумку, словно собрался в спортзал, едет до конечной и выходит в ливень, натягивая на голову дешевую куртку из кожзама, чтобы забежать в ближайший бар. Чтобы в этом баре молодой и улыбчивый брюнет угостил его пивом, а потом пьяно мял губы, сжав в пальцах его член.
Грант здесь проездом, у него ничего нет, кроме своего обаяния, он задает вопрос первым – к тебе? – и безымянное наваждение кидает двадцатку на стол, говоря, что остановился недалеко, в мотеле. До чего прекрасны эти молодые мужчины из соседних городов. Им не нужны клятвы и прелюдии, как женщинам, им не нужна красота твоих речей, ложные обещания или долгие взгляды. Они хотят твой член и говорят об этом открыто. Черт возьми, Томас тоже этого хочет.
Он вплетает пальцы в свои влажные волосы, убирая с лица и откидывается затылком и лопатками на захлопнувшуюся дверь мотеля, пока его безымянное наваждение вбирает в пьяный рот окрепший член. Лица почти не видно в полумраке, только проезжающие мимо машины прожигают в окне мотеля белизну своими фарами, облизывая светлыми бликами высокие скулы и прикрытые глаза незнакомца. Только сейчас Грант замечает, что его глаза ненавязчиво подведены карандашом, а в сосках блестят серебряные кольца. Его безымянная прелесть поднимает одурманенные глаза, с жадностью вбирая член, обсасывая его и заглатывая, с опытом уличной шлюхи отправляя его за щеку и вынуждая головку толкнуться меж гланд, игнорируя рвотный позыв. Томас гладит его по щеке, шее, запускает пальцы в крашенные темные волосы с отросшими корнями, сжимая в кулаке; еще, глубже, дольше, чтобы безымянный дурман задрожал, сглатывая слюну, сочащуюся из уголка рта, щуря увлажнившиеся глаза.
Ему не нужно ничего говорить, он вскидывается на постель сам, едва выпустив член изо рта, моляще прижимаясь щекой к старым, застиранным простыням и вскидывая свои бледные ягодицы с алеющим, раскрывшимся входом. Он даже не просит Томаса надеть презерватив, увлажняя вход собственными пальцами, смоченными в слюне. Прекрасный, дешевый секс, без имен и обещаний, без презерватива, без чертового лубриканта. Только такие же дешевые, преувеличенные стоны, нелепость шепотков «да, трахни меня» и вульгарность уличного мата, потому что его незнакомец не умеет трахаться молча. Грант не возражает, совсем; он едва успел стащить на ходу свою рубашку, без труда вошел в податливость дешевого тела. Он гладил широкими ладонями его плечи, лопатки, опуская руки на бедра и притягивая свою дешевую сказку навстречу грубым толчкам, сопровождавшимся влажными шлепками. Как в дешевом порно. Ему самому забавно от этой мысли, Томас позволяет себе вздернуть губы, обнажить крепкий оскал, глядя в затылок своему стонущему, шепчущему любовнику, готового достигнуть пика. Нет, только не кончай, не сейчас, не тогда, когда сам Грант не может кончить, слишком долго и почти болезненно; кажется, еще немного, и он начнет терять свою твердость. Потому что этой дешевой сказке не хватает грязи. Все по-прежнему слишком правильно.
Мужчина подается вперед, обхватывая в локтевой захват горло своего случайного любовника, вынуждая прогнуться, вжаться в лопатками в обнаженную грудь. Сказка принимает все за игру, снова стонет, тяжело, рвано дыша, шепча «да, да, папочка», дергая свой член, потому что удушение ему явно нравится. Томасу тоже это нравится, он тяжело дышит в шею, прикрывая глаза, сжимает захват крепче, усиливая давление в секунды. Он не любит долгих игр, прелюдий, никогда не любил. С живыми, по крайней мере.
Его безымянный дурман хрипит, начинает хвататься цепкими пальцами за запястье, пытается ухватить Томаса за затылок, выцарапать глаза, схватить за волосы, ударить. Раскрывает рот, словно подыхающая рыба, хватая воздух бледнеющими губами. Серые глаза навыкате, дурные, дикие, влажные, со сбившейся в комки тушью в уголках, краснеющие от подступивших слез. Слюна пенится, катится в уголке рта, пока он, словно забившаяся в судорогах свинья, чисто рефлекторно пытается уйти от топора мясника, хотя все понимают – это невозможно.
Томас кончает быстро, еще удерживая в захвате обездвиженное тело; упирается ладонью в его затылок, вжимая лицом в простыни, провонявшие потом и сыростью, дешевыми сигаретами, шлюхами. Опускается на кровать рядом, еще тяжело дыша, прикрывая глаза. Сильный оргазм, быстрый, как хорошая мастурбация за полминуты – отвел душу и можно заниматься своими делами. Тело мертвой сказки смердит страхом смерти, потом и мочой, пропитавшей постель между его ног; сказка, умирая, обмочилась.
Это хороший секс. Очищающий, можно так сказать. Дающий свободу, вдохновение, делающий мысли кристально-прозрачными и холодными. Он бы закурил, чтобы продлить этот момент, курил бы сигарету за сигаретой, а потом заснул бы здесь, на обоссаных простынях, чтобы гладить его светлую кожу и ощущать, как остывает тело. А потом взять камеру и снимать. Снимать, снимать, снимать, чтобы остановить время, запечатлеть, запечатать в своих снимках вместе с запахом пота и мочи, вкусом дешевых сигарет и кислого пива во рту.
Томас Грант открыл глаза, блуждал взглядом по потолку, выискивая трещинки в штукатурке, тенёту в углу. Он не Айзек Гордон, у него нет времени снимать. Поэтому нужно наполнить горячую ванну, до краев, чтобы вода плескалась у самых ободков. Нужно раздеть свою сказку догола, обнажить, оставив только кольца в сосках, коснуться их пальцами, задержав взгляд – не из сентиментальности, а из любопытства; подавить желание медленно оторвать их, прорвав плоть. Нужно опустить теплое тело в воду, бережно, с любовью, ласково убрать волосы с лица, полюбовавшись алым ртом. Найти ржавые ножницы, чтобы вспороть вены от запястий до локтей. Конечно, сердце уже не бьется, и крови будет мало, но кипяток спрячет следы, а копы, расследуя смерть очередного гея, быстро закроют дело. Так убивает Томас Грант Младший. Неумело, грязно, как и большинство людей, задушивших своих случайных любовников в приступе страсти, во время неосторожного секса. Айзек Гордон был бы куда предусмотрительнее, работая чище и не оставляя следов. Но сегодня он Томас, а Томас убивать не умеет. Томас просто хотел секса.
В том городе он провел еще день, блуждая по магазинам, скупая глупые сувениры, кормя голубей в парке и рассказывая встреченным на аллее мамочкам с колясками, что приехал из-за проблем с наследством после смерти отца, а дома его ждет жена и маленькая дочка. А следующей ночью, выбросив пакет со статуэтками и магнитиками, сел в электричку и вышел через 8 станций в 4:38 утра, с портфелем и в тесном галстуке, привычно поправляя очки на носу. Айзек Гордон чувствовал себя вполне сносно после поездки на похороны тетушки Аннетт, живущей в соседнем городе, о чем он и сообщил Оливии, своей девушке, вернувшись домой к утру и проспав часов до двенадцати.
Отредактировано Актай (2017-12-18 09:44:21)