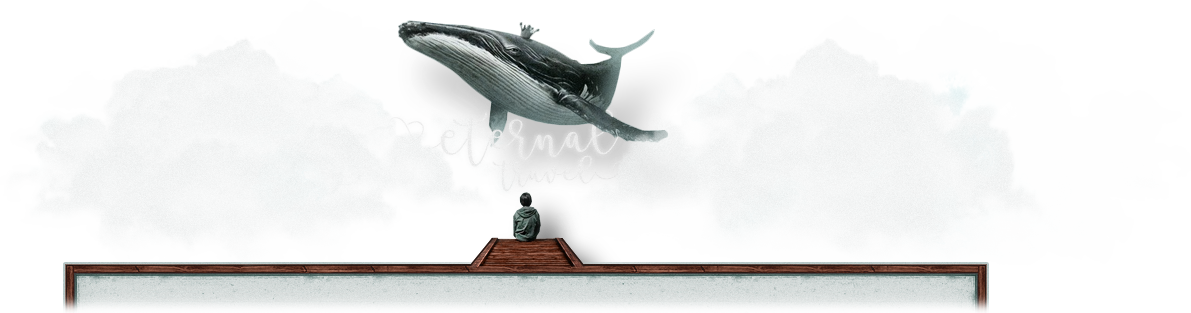В первый раз ты встречаешь женщину, она уверена в том, что она - раковая опухоль, поэтому она жрет, жрет, жрет без остановки. - Опухоль должна разрастаться, - говорит она, щелкает пальцами, ей приносят жареных раков, обтекающие жиром куски свинины, выжаренные на открытом огне до черноты, сливки в розетках, бананы, виноград, нут и макадамию в глубоких плошках, резаные свежие хлеба, бланманже в огромных десертных тарелках, она растягивает пальцами свой рот, и еду спускают туда вместе с посудой. Она облизывает приборы и требует еще. Она смотрит на тебя и размышляет. Она снова открывает рот, но вместо того, чтобы продолжить жрать, она орет так, что у тебя закладывает уши:
- ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, - тебя уже подхватили под руки белые костюмы и черные манишки, у них такая хватка, что сводит жилы, к горлу ползут метастазы, и от этой ебаной какофонии трудно дышать. - ДАЙ, - завывает она, запрокинув голову. У нее рот такой огромный, что туда поместится пара грузовиков. Что уж говорить о лишних двух метрах какого-то хилого человека. Между зубов застряла зелень, где-то видно вялые волокна недопережеванного мяса. Сплошное тошнилово. На тебе - выходной костюм: синий фрак, оранжевая рубашка, сплошное шутовство. На воротнике - несколько смазанных пятен крови, на лацкане нашит розовый треугольник. Парой часов назад какой-то маленький жилистый урод в казенном без остановки бил тебя по лицу, выкорчевывал зубы, переламывал хрящи, а потом заставил утирать за собой кровь. Это занятие неблагодарное: чем больше убираешь, тем больше вытекает, а если случайно потерять сознание, получишь сапогом под ребра.
Ты открываешь глаза: он расчехляет досье, и из него ворохом вылетают пухлые письма. Некоторые падают на пол - тут же пропитываются кровью, прозрачнеют, теряются в костяной крошке. Некоторые он вскрывает, поддев конверт ножом.
Ты закрываешь глаза: под веками Опухоль, наконец, прекращает орать и с удивлением пялится на бумагу, принесенную ей на подносе вместо очередной порции окуня в кляре. Ее рот значительно уменьшается: вероятно, это - версия для коммуникации. - Милый Иоганн, - начинает она, давится слюной, и с полминуты услужливые руки бьют ее по спине.
Ты открываешь глаза: он сидит за столом. - Жизнь без тебя тусклая и больная, - где-то со стороны открытой двери слышен громкий хриплый гогот. - Никогда не было и не будет таких, как ты. - Тряпка больше не собирает кровь, а ее становится больше - она идет горлом, идет носом, идет из челюстных проломов, ей раскрываются темно-синие цветы гематом. Одежда закостенела, и двигаться трудно.
Ты закрываешь глаза: - Я отдаю свои письма птицам, - она снова давится, но протестующе машет рукой - помощь ей не нужна. Это - ее смех. - Птицам, здесь так и написано... Птицам, - она листает страницы, ее брови сведены на переносице. - Скучно, скучно, скучно... Целовать твое тело... Скучно, скучно, - эта хватка на предплечьях: как будто переломаны кости.
Ты открываешь глаза: - Расскажи мне, Ганс, как мама: ей стало легче? - у него баварский прононс, он немного гнусавит, наверное, простудился. - Тут страшно, и падают бомбы. - и ты собираешь, собираешь, собираешь эту кровь, пытаешься влить ее в свои раны, но ничего не выходит. Он поворачивается боком: у него четкий профиль и лукавая улыбка. - А может, все-таки ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ...
- НЕ ДАМ, - рычишь ты, забиваясь в угол, кажется, сломав себе еще пару костей, - НЕ ДАМ, НЕ ДАМ, НЕ ДАМ, НЕ ДАМ, - и содранное горло кровоточит с удвоенной силой, он держит Опухоль под руку, и у нее неожиданно нежные руки, колышущиеся полные груди, в которые она вжимает тебя, нежно укачивая на коленях. - Не дашь, - ласково отзывается она, - Не дашь, милый, хороший, ну и не давай... Мы все равно возьмем.
Не возьмете. Керель открывает глаза пошире, чтобы не закрыть ненароком: в голове - такая свалка. Линновы боли в воздухе пальпируемы. Надышался. Натерпелся. Вокруг - объятья этой твари. Внутри головы - мутные письма нечетким округлым почерком. Писать научился сносно, но с ошибками. Кости срастаются, их латают лучшие портные. Заживают синяки и ожоги. Становятся гладкими вечно разбитые колени. Шрамов не остается: каждый раз - по-новой. Казалось бы, Линн задает совершенно закономерные вопросы: ему необходимо расставить все по полкам. Почему-то это взбивает керелеву память как сливки в розетке на том отвратительном столе.
Возьму, упрямо решает он, сам. Это вам, тварям, и за Иоганна, и за его мать, и за кровь на полу, и за тряпки в крови. И за сломанный в пяти местах нос. И за вонь из ее пасти. За все это промерзшее человечество, грызущее само себя. Они надеются на то, что что-то изменится. Как бы не так. Дальше - все куда хуже.
Блять, и Керель снова прикрывает глаза ладонью: каждый ебаный раз. Каждую ебаную жизнь. По одному и тому же сценарию: я все изменю, я всем отомщу, я заставлю справедливость торжествовать, и сошедшие с небес коллеги протрубят всем индульгенции с пятидесятипроцентной скидкой, конфетти и миндальное молоко. К своему человеку неумолимо проникаешься нежностью, даже если его нужно убить. Или довести до смерти, проследив, чтобы не напортачил напоследок.
- Мне нравится, как сейчас, - Линн продолжает, и Керелю приходится снова дать себе по башне, чтобы не думать лишнего. Лишнего. Иоганны. Линны. Эти "нн" неспроста. - Случается разное. Следует соответствовать времени... ты сам понимаешь, Линн, в блестках меня бы не пустили к Безумной Хуане, ну и... ко всяким... тоже, - Керель сникает. Хуана была хороша. - Теперь молчи, Линн, - дернувшись, он зажимает Линну рот рукой, щурится, уставившись в его глаза. - Ты задаешь слишком много вопросов.
Все, что должно быть дальше, написано в бумагах - было написано, - со всеми "СРОЧНО", "НЕ ЗАБУДЬ" и "НЕ ДАЙ БОГ", но они, к сожалению, оказались в урне. Время есть: год и два месяца. Времени достаточно. У Линна очень темные глаза: как камни или звезды. Потолок весь в трещинах, потому что в него нельзя смотреть такими глазами. Штукатурка не выдерживает. Слишком сильный износ.
- Я делаю все, чтобы довести тебя до нервного припадка, Линн, - серьезно заявляет Керель, почесав в затылке. Сильный стресс увеличивает шансы ремиссии... о, блять, да кого здесь наебывать. Можно высосать из него хоть всю болезнь до остатка - кровь пойдет здоровой, легкие задышат ровно. Но в заданное время его все равно задавит тачка, или он выпадет из окна, или кончит с собой, или... да дохуя вариантов, человек может умереть от всего: чтобы отомстить за пошатнувшийся земной баланс, глубокоуважаемый Господь Бог придумает что-нибудь понелепее и поунизительнее. Разумеется. С него станется.
О, ну... вероятно... ты тоже предпринимаешь взаимные попытки, - у Кереля сбивается дыхание, и это странно: эта система должна работать точно и давать осечку только если... ну... бежал сорок километров, очень сильно испугался, или хочешь откинуться с кислородного овердоза, в любом случае, нервный припадок, разумеется, более чем вероятен, но не на той стороне, которая Керелю в этом случае предпочтительна. Хочется говорить сентиментально, но он не умеет. Тело подчиняться отказывается в принципе, как будто в мозжечок кто-то вбил суровый ржавый гвоздь: он обмякает, пытается лечь удобнее, не выходит. Немного колотит: это нервное, но как будто от холода. Керель немного улыбается, но это, наверное, процессу помешает: он ловит линновы губы своими в ответ, держит его запястья, чувствует его сбившийся, но все еще мерный пульс. - Мне нравится, что ты еще живой, - сообщает он все так же тихо, не открывая глаз. - Мне... мне нравится... - он неловко ведет рукой по линнову плечу, оглаживает его спину, проходит пальцами по выпирающим лопаткам, ведет по линии позвоночника, перешагивая каждый пальцами, он чувствует, как сокращаются мышцы, как спокойно, расслабленно дышит кожа, как дышит сам Линн - его дыхание на керелевом лице, - и почему-то это кажется ему самым удивительным удостоверением жизни: после восстающих из мертвых и живущих без конечностей, после потерявших все, после выходящих из комы - простое свидетельство существования. Ничем не героическое. Ничем не примечательное. Оно завораживает; Керель делает пару судорожных вдохов, беззастенчиво пялится в линново лицо, трется щекой о его плечо. - Ты хороший живой, ты... живой... мне нравится.