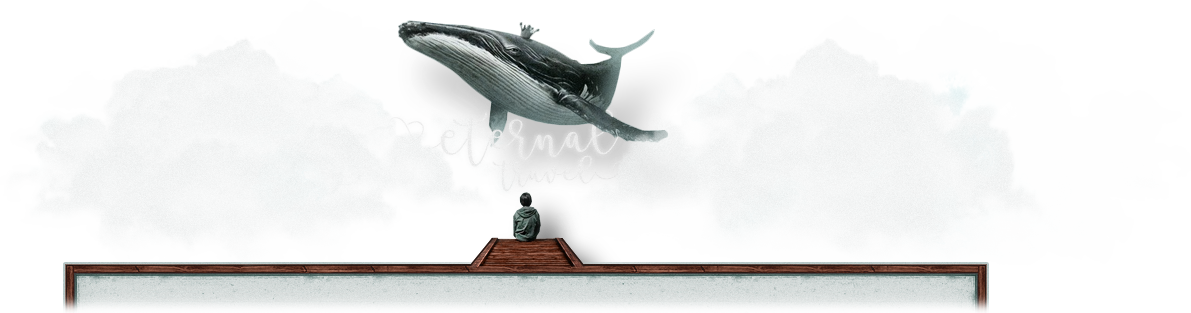Внутриголовное можно приукрасить, на то оно и внутриголовное - полное вранья и ночных галлюцинаций, покосившихся, как дома, эстетических систем, их уродливых сбоев, хлама и мусора, городов, облаков, птиц, шуршащих тканей и курящихся благовоний, может быть, каких-нибудь малозаметных мечт, редких поллюций и периодических некрасивых истерик. В линновой голове все верно, все по порядку, как у него в шкафу или в кухонных ящиках: ножи справа, свитера слева, белье и специи расфасованы по пакетам и банкам. Поэтому с ним вдвойне интересно: он знает, что будет дальше, он знает, как СЛЕДУЕТ себя вести, он знает, как должно, он знает расписания и календари, знает очень много цифр и дат, он знает, каким проснется завтра, знает, когда родился и когда умрет: в свое время Керель развлекался тем, что, находя в своем столе чужую документацию, долго и с наслаждением жег ее в пепельнице или цветочном горшке.
От цифр и дат ему дурно: определенность - это пищевое отравление.
Отвернувшись, Керель размазывает краску по небу: растирает пальцами жирную гуашь облаков, замазывает дыры падающих звезд, стирает луну, долго и сосредоточенно рисует петуха с раскрытым нараспашку клювом, зерна для него у самых лап с острыми злыми когтями, пытается устроить ему блики на перьях, но выходит что-то несусветное: голова петуха полна птичьих проблем, он не обращает внимания на зерна, у него под хвостом - звездное небо, а наверху - категорический императив. Керель пытается записать, но делает две ошибки в слове "поступай" и бросает это неблагодарное занятие вообще.
поступай так чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом
паступаи так штобы моксима тваей воли моглабы быт' всиобщим зоконом
Кант бы очень расстроился. Немного подумав, Керель дорисовывает петуху парик. Выходит очень похоже: натуральное впечатление, что у Канта вырос гребень и хвост.
Рисование его чрезвычайно увлекает: повернувшись к Линну, он выводит ему брови темной краской, оставляет пару полос на острых скулах, пробует эти полосы на вкус: сладко и сухо, может быть - от воздуха, может быть - от этой кожи, у нее всегда странный привкус театральной пудры и можжевельника, - Смотри, - он пошире распахивает глаза: позаимствовал у Музыканта, пускай бедняга хоть денек посмотрит жизнь, - белый туман глотает зрачок, топит собой радужку, очень много молока... очень много молока, оно со вкусом миндаля и пахнет миндалем, как цианистый калий. - Я вижу тебя всего, - он сбивается с мысли, путает буквы и на мгновение забывает, о чем вообще хотел говорить: исстрадавшийся Линн похож на канонического святого и, недолго думая, Керель выводит нимб вокруг его головы (мне нужно трогать тебя: всего, и видеть тебя: всего, и знать тебя: всего, и, если хочешь, я позволю то же и тебе: все, всегда, всего)
(потому что они были сделаны для того, чтобы их созерцать, и они существовали для созерцания, и молитв, и долгих горестных песен, и Линн, статуя слоновой кости, тоже - для этого, потому что иначе не выходит (должен быть богом), иначе - никак, целовать прохладные стопы, стирать колени в кровь, говорить мертвыми языками, оставлять письма, очень много писем, присылать их голубями. Делать тысячу вещей сразу, но без дурного намерения, потому что иначе святой прогневается, и это будет куда страшнее, чем глаза цвета молока, и куда страшнее, чем любые перья любых крыльев, и куда страшнее, чем войны, чем смерти, чем чужие сказки).
- И ты смотри, - это обычно процесс неприятный: очень зудит, потом - такое чувство, что наживую вырвали хребет, но это недолго, потом становится тяжело ходить, но, в самом деле, зачем ходить, если можно летать... это, конечно, невероятно паскудно и очень слезливо, летать можно и в самолете, и это куда удобнее, чем эта дрянь за спиной, которая, тем более, человечьим телом не предусмотрена, поэтому - сначала рвет кожу, как бумагу, потом - цепляется за обстановку, царапает спину, а никакой ценности, кроме исключительно декоративной, не несет. Ну и дальше, разумеется - долгие, заунывные и преисполненные трагического пафоса стенания на тему "больно", "трудно", "убого" и "порвал новую рубашку", попытки привести себя в порядок ("это, кажется, было в каком-то фильме") и другое, вроде "у меня больше", "у меня пышнее", "мне больше идет".
Сначала падают перья: они мелкие, похожи на лебяжьи. Их, кстати, можно собрать на подушку или пуховое одеяло: с крыльями всегда очень душно и жарко. Процесс - весьма замогилен и несколько унизителен: внезапно для себя сильно покраснев, Керель прикрывает линновы глаза своей измазанной в красках ладонью, пытается сесть поудобнее, может быть - немного посоображать: это было бы в крайней степени полезно.
Выходит странно. Внутриголовное, кажется, воспринимает все чрезвычайно серьезно: тело уныло пытается восстановить привычную физиологию, но у него не очень выходит. Чтобы не издавать лишних звуков, Керель улыбается и дышит через рот. Можно было бы закинуться каким-нибудь... анальгином, но то количество колес, которое могло бы помочь, довело бы до овердоза.
Невесело, думает Керель. Совершенно никакого веселья. Библейские понты и немного мигрени: кровь прорванной кожи собирают на себе перья, и становится еще тяжелее их держать. Голуби советовали: надо выбирать мусор клювом, побольше плавать, чтобы было гладко. Клюва Керель у себя не обнаружил, а когда как-то раз зашел в воду в полном обмундировании, упал и не смог подняться. Приходится терпеть. Гнозис важнее шика.
- Ты мне поверил, Линн, тебе непросто поверить, ты плохо это умеешь, - стало совсем сухо. Песок под ногами царапает кожу. Перья волочатся по земле. Солнце светит сквозь петушиную голову: лучи мерцают по контуру зерен. Керель отнимает руки от линнова лица, держит за плечо, чтобы не пытался встать: стоит немного отдохнуть. Смотреть можно и сидя. - Это ценно, я ценю это, друг Линн, - прикрыв глаза, он целует линнову ладонь, прижимается к ней лбом: теперь страшно даже трогать. Это - натуральное богохульство, и за это он будет... гореть в... эээ... аду? дедлайне? жарком и порочном огне собственного бесконечного стыда? это пока что не ясно, - сделать собственное небо, и собственные правила, и переманить на свою сторону Судьбу: оскорбление. Плевок в божье несуществующее лицо. Но человек Линн, который - другой, который несет за собой Смерть и боится высоких домов, он - кажется, Керель ловит какое-то откровение из разряда божественных. Впрочем, он тут же его забывает, - он... Боже, что же это было...
- Ты ушел со мной, и сегодня ушел, и тогда ушел, и это - хорошо, тебе нужен свежий воздух, - на керелев нос садится перо, и он с пару секунд сосредоточенно его сдувает. - Тогда Смерть отступит, она не любит таких, как я, а я рядом, я... долго буду рядом, она появится, но ей придется уйти, мы не откроем ей дверь, как Аните... Она может удивиться, у меня крылья как голубиные, часто бывали у тебя такие, а, Линн? Она натурально удивится, очень сильно, давай удивим ее, и она больше не принесет тебе супу, - Керель утирает руки о перья, но краска даже не бледнеет. Снова придется отмокать часа четыре в этой бестолковой линновой ванной: почему-то такая перспектива Кереля чрезвычайно веселит, и он начинает нести чушь с удвоенной силой: смущение никуда не девалось. Он все еще чувствует себя слишком голым. - Мне надо будет... не забыть снять одежду, Линн, когда я пойду в твою ванную, потому что я ни во что больше не влезу... а если она зайдет, ну, Анита, я ей налью чаю и почитаю Писание, и пускай она поучит меня... грамматике, что ли, я не могу писать без ошибок, она же знает грамматику, эта Анита? А ты сможешь спрятаться на балконе или в шкафу, я очень плохо учусь, она уйдет сразу же. Тебе надо будет совсем немного подождать.