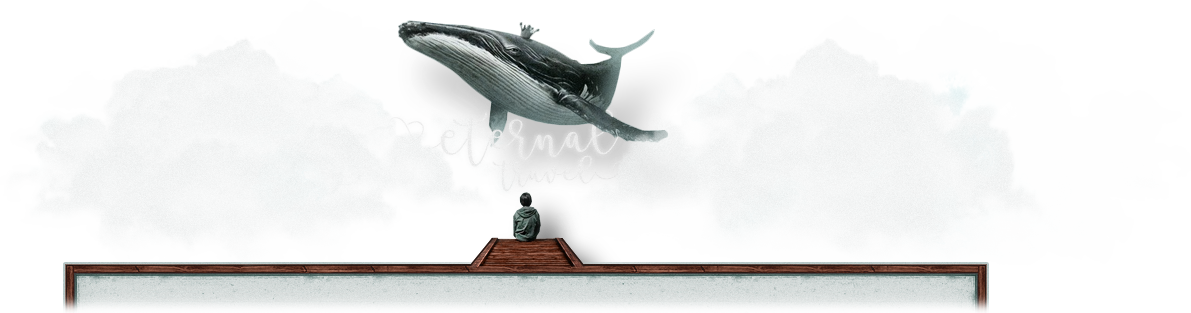Мизансцена: на пятнадцать минут внутрь. Златовласый Антуан, в жемчугах, парче и шелке, держит серебряный поднос: на него странный мертвый человек кладет слепую керелеву голову. Сзади - развал, красные флаги, раззявленные злобные пасти, за каждым углом - албанцы, набитые лезвиями и лозунгами. Это девяносто восьмой год. Неловко дернувшись, Керель оттягивает ворот драной кофты: под ней наливается кровью еще один оскаленный рот, проделанный в нем, вероятно, на всякий случай. Рот редко и густо отплевывается, и на антуановы золоченые ткани омерзительно и жирно льется. Наверное, ему не понравится, когда он проснется.
Еще одна: на двадцать три наружу. Златовласый Альбер в простом крестьянском платье вскрывает Керелю глотку на светлые простыни. Вокруг очень дымно и плохо: умирают и другие, но ему почему-то тошнее всех. Это Алжир, шестидесятый год: было больнее всего, он видел разрушенными вилайеты и семейства, растоптанными фрески и мозаики, сожженными поля и хозяйства. Становится тепло и мокро чуть пониже ребер - туда вошел штык-нож, когда он попытался (в порыве крайней сентиментальности, конечно) выстоять собственный дом. В доме уже давно жили другие, но было много детей, и много добрых, и они перерезали всех. Его - в первую очередь. Почему-то так вышло.
- Нет, нет, нет, нет, нет, - умоляюще скулит он, отшатываясь назад: маленький человек внушает ему почти кататонический ужас, это ужас из категории "ювенальная юстиция", или: "бубонная чума", что-то чрезвычайно взрослое, абсолютно бесконтрольное, промозглое до костей, но он упрямо борется, - Ты говоришь слишком громко, не разбуди детей, не разбуди детей, не разбуди...
не укради
Он прижимается губами к антуанову лбу, легко сдувает упавшую волнистую прядь, поспешно целует и Альбера, не открывая глаз: прошлое - изведанное - исчувствованное - в нем бушует и рвет все новые и новые раны, шрамы, которых не бывает на этом теле, они вскрываются омерзительными на вид искусными экзотическими цветами тонкой работы. Он - украл, и теперь они - это его, и он сжимает объятья все крепче и крепче, потому что ОН пришел, чтобы ОТНЯТЬ, но так нельзя, нельзя украсть уже украденное, просто посмотри на меня - внимательнее - ЕЩЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! ПОЧЕМУ НИКТО НИКОГДА МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТ, - мне слишком больно, мне слишком плохо, у меня нельзя ничего отнимать, мне так нужна помощь, мне так нужна помощь...
не убий
Мизансцена: на полчаса вверх. Спящие, И Тот Кто Смотрит: у Кереля от усталости страшно дрожат руки, в детском запахе он задыхается, сжимая тонкие плечи, перебили всех голубей, но у них такие мирные, тихие лица, это тальк, и свежие ткани, и красные апельсины, и шампуни на маслах, и лавандовое мыло, и типографская краска (прежде чем заснуть, они читали книги): от Кереля за полмили несет песком, тоской, забродившим виноградом и сладким гашишем. Он обрел первородную форму: осунулся, побелел, сбил все колени, выплакал все глаза, но вернулся в свою константу. Воровать айву. Стрелять горохом. Послушно справляться с намазом. От него никогда не пахло ни тальком, ни лавандой, ни апельсинами - только песком, всегда... всегда песком, - Пожалуйста, оставайтесь со мной, оставайтесь со мной всегда, - шепчет он в оба хрупких тела, и слышит, как сводит кости, и как струнами визжат нервы (он знает, как струнами, струны - это единственное, что он знает), и видит, как вместе с его кровью мешается детская, сначала редко, потом - потоком, как Сена, выходящая из берегов
не обними
Неаккуратно и больно выгнув руки, он пытается прикрыть детям рты, чтобы они не плевались кровью, но ее все больше и больше, он видел много, но столько, кажется, никогда, и на него нападает паника, - Не разбуди, не разбуди, не разбуди детей, - лихорадочно причитает он, сложные и четкие системы у него в руках распадаются на обыкновенное мясо, проседают изломанные кости, блекнет кожа, темнеют волосы, это случилось само, оно случилось случайно, случилось случайно, случилось случайно, СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБВИ, кто-то передушил всех голубей, кто-то передушил... детей никак нельзя хоронить в листах фигаро, понадобится слишком много листов, - Нет, не расстраивайтесь, - он крепко держит откидывающиеся на треснувших хребтах аккуратные головы, как у младенцев, нельзя позволять младенцам держать голову самим, это очень вредно, позвоночник очень слабый, может случиться что-то непоправимое, со спящими детьми точно так же, и с мертвыми детьми, но они просто спят, очень глубоко и сильно спят, и их ни в коем случае нельзя будить, если бы было иначе, наверное, наверное, наверное кто-то бы отозвался, было бы как-то иначе, - он бросает беспомощный взгляд на Маленького Человека, но тот молчалив и безразличен, и они действительно спят, ведь он бы как-то отреагировал, как-то отреагировал, конечно, все в порядке, они просто спят, просто очень глубоко, очень сильно спят,
не разбуди, не разбуди, не разбуди
Ему хочется говорить, но это будет: эгоизм - в самом деле, что еще он может сказать, и эти казенные выписанные речи - он сам жег и рвал их при любой возможности, и слушать ему совершенно не хочется, бедные, бедные дети, мертвые дети, дети с треснувшими ребрами, дети с красными ртами, дети, не выдержавшие объятий, - Они так крепко спят, что даже не слышно, как дышат, - тихо говорит он, ежась от холода и сырости, ему, конечно, не верится, но - НЕ ВЕРИТСЯ, ХА, - ему давно ни во что не верится, совсем ни во что, и Маленькие люди, и Большие люди, и Просто Люди никогда, никогда, никогда не смогут ему помочь, они так не хотят помогать; он опускается рядом, очень мокро, очень холодно, и если сесть, вода поднимается до бедер. Керель ведет ладонью по альберову личику: оно, мирное, аккуратное, выглядит, как восковой слепок, у него ровная кожа, маленький шрамик от ветрянки на подбородке, глаза прикрыты гладкими нежными веками, и внезапно от этого лица ему становится так страшно, ТАК ЧУДОВИЩНО СТРАШНО, что на мгновение останавливается все движение, прекращает ток кровь, дыхание становится спазмом, нервы сводит судорогой.
- Смотри, - он очень нежно улыбается, снова прикасаясь губами к обоим лицам поочередно. - Я все-таки их убил.
Он тихо смеется себе под нос, перебирает наплетенные Альбером косы, щекочет кончиками антуанов нос, поправляет воротнички, спускает их рукава, чтобы не замерзли. Волосы от дождя совсем спутались: он вычесывает их пальцами, забирает пряди назад, наверх, со лба, иначе будет чрезвычайно щекотно спать. Раньше он никого и никогда не убивал, тем более - своих друзей, и это очень странно: как будто провернул себя через мясорубку. Кереля отчаянно трясет; рукав легкого пальто Маленького Человека неприятно трется об его голую руку. Это - точное, ясное знание, абсолют знания, Самое Первое Знание Из Всех: он один. Никто не поможет. Он был один, когда Азхар и Раним готовились к революции, и он был один, когда умирал на Бастилии, и каждый раз после этого, когда умирал, он все равно был один, не было времени, когда он НЕ БЫЛ ОДИН, НО ВЕДЬ ЭТО ТАК СТРАШНО - БЫТЬ ОДНОМУ, ЭТО ТАК СТРАШНО, ЭТО ЧУДОВИЩНО СТРАШНО, ЭТО СТРАШНО, И ЭТО ПУСТО, И НЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ЗВАТЬ, МАМА, МАМОЧКА, МНЕ ТАК СТРАШНО, ГОСПОДИ, МАМОЧКА, ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮДА, ПОЖАЛУЙСТА, Я ТАК ЗАМЕРЗ, Я ТАК УСТАЛ, КАЖЕТСЯ, Я НАТВОРИЛ ОЧЕНЬ ПЛОХОГО, МАМОЧКА, ПРОСТИ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА, Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУ, Я БОЛЬШЕ НИКОГДА ТАК НЕ БУДУ, МАМА, МАМОЧКА...
- Я хочу домой, - просит он, и дождь усиливается в разы. - Я хочу домой, по-настоящему домой, забери меня домой, - руки заняты, Маленький Человек отчаянно мерзнет, и он аккуратно проталкивает локтем за его спиной уродливое, кривое крыло, чтобы хоть как-то прикрыть от ветра. Руки сводит от холода и силы: одежда на детях помялась, кожа продавлена от керелевой хватки. - Я хочу домой, ты понимаешь, о чем я говорю, домой, я больше так не хочу, я хочу домой, я очень хочу домой, - его замыкает; он рассеянно укачивает на одной руке Антуана, на другой - Альбера, выходит в разном темпе, и от этого они, может быть, проснутся, а ему так не хочется, чтобы они просыпались, детей так трудно уложить, - Я хочу домой, я хочу домой, я хочу домой...
Маленький Человек не имеет понятия: дома у него никогда не было. Керель жмурится, запрокидывает голову, продолжая мерно покачиваться из стороны в сторону (это его немного успокаивает): там жарко, и там пески, и горят травы, и очень много голосов, кто-то играет струнами, кто-то бьет в банки, и эта музыка много прекраснее любой другой, это такая красивая музыка, какой никто никогда не слышал, она давно умерла, эта музыка, но Керель запомнил, и он может играть: и на мандолине, и на лютне, и на скрипке, и даже на арфе, но красивей, чем на консервных банках, не будет никогда. Это заимствованная красота, и ее воспроизвести он никак не сможет. Керель не вяжется с красотой. Керелева любовь имеет обыкновение убивать. Может быть, именно поэтому Он отказался иметь с ним всякое дело: зачем ему нужен брак.
И - это самое, самое отвратительное, - в нем еще есть совсем немного надежды: может быть, Маленький Человек его поймет, но Маленький Человек весь внутри своей головы, и в своих правилах, и в своих... - Ты зануда, - тоскливо стонет Керель, прижимая к себе детей покрепче: еще крепче, и еще, и они снова льют немного крови, - Я хочу домой... А ты страшный зануда...
[SGN]1М: Караваджо, Саломея с головой Иоанна Крестителя
2М: Фурини, Юдифь и Олоферн
3М: Соломон, Спящие и бодрствующий[/SGN]