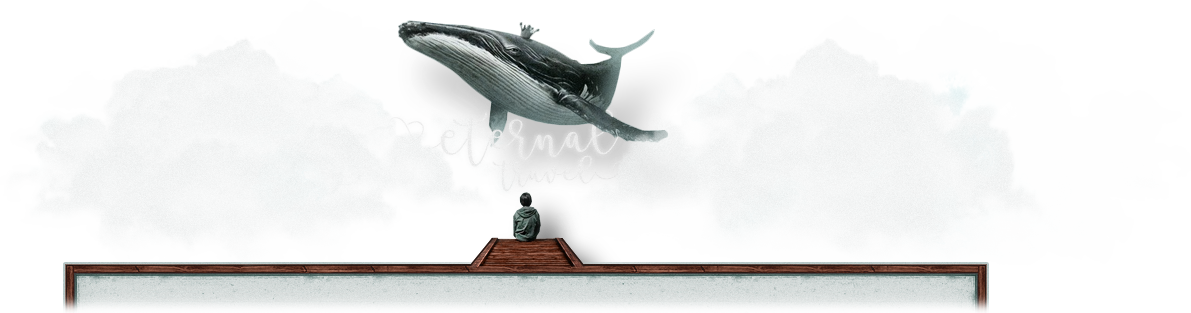Долго ли, коротко ли, прожить целую жизнь человеческую? Измерить ее шагами, из края в край, исходить. Пробежать ее быстрым ручьем, бурлящим на невзгодицах, бурунами, порогами, да разлиться потом широко, шире озера. Эх, хорошо! Проложить сквозь нее тропки дальние и тропки близкие. Врасти, вбуриться в нее, в самую суть, корнями. Забурлить древесным соком и вытечь, иссякнуть, породив перед этим новую, еще одну, жизнь.
Быстро живут люди. Быстротечно. И когда только все успевают? Не здесь ли, не на этом ли самом месте не было еще вчера никакого дома? Или год тому назад это было? или десять лет? Не эту ли женщину, с усталыми морщинками возле глаз, помнишь по прошлому празднику? Не с ней ли плясал? Не ее ли, молодую и звонкую, будто ящерку, будто ручеек, крутил и вертел под заливистые трели пастушьей дудочки? Не ее? Нет, не ее. Может ту, с серебром в волосах, с черствыми морщинистыми руками. А может, ушла уже. В землю ушла, как уходит все, что из нее родится.
Быстро живут люди. Не угнаться. Не поспеть за ними ему. Всех песен не перепеть, не собрать в котомку заплечную. Не перетоптать, не перетанцевать все тропинки судьбин человеческих. Хоть и хорошо видит судьбины Чугайстер, далеко. В завтрее простирается взгляд его, в послезавтрее. Да только, пока он смотрит вдаль, и кажется, всего на миг замерев, сегодня уже сложит хрупкие крылышки, серым ночным мотыльком упадет на ладонь.
Но не жалеет он ни о чем. Ни о людях, ни о прожитых днях, ни о непрожитых днях. Не тщится запомнить лиц, не оплакивает ушедших. Чего уж? Должно так быть, и так есть. А потому, легко на сердце у Ночника. Легко и светло. Идет он среди людей, сам в облике человека, мягкой поступью. Хмурится и щурится. Не потому хмурится, что зол, а потому что гусляр, струны перебирая, перебирал, перебирал, да и переврал. Перебрал, видать, гусляр, ноне браги хмельной. Эх, забрать бы гуслей, да показать бы, как надо! Наиграть плясовую, чтоб все вкруг, от стара, до млада, сами собой притоптывать да прихлопывать стали. Но не отбирает гуслей Чугайстер, дальше идет.
Мимо столбов, украшенных цветастыми лентами, мимо помоста, где лихо отплясывает молодец в расшитой рубахе. Пляшет, да присвистывает. Ночник и сам горазд посвистеть, да только от свиста его сметет оземь красный колпак с плясуна, да побьются горшки да кувшины вон там, на телеге, с которой бойко идет торговля. И будет людям тогда не веселье, а убыток. Не свистит Чугайстер, не взбирается на помост и не пускается в пляс, а идет себе дальше.
К телегам идет, к торговому люду. Зубоскалит с торговыми, перекидываясь шуточками, пока цепкий слух его выхватывает из толпы новости, слухи да послухи. Пока зоркий взгляд его вынимает из толпы человечьей шишигу, выторговывающую в тканой лавке узорный платок. Зачем шишиге платок? А то! Вам скажи. Приблизится Чугайстер и шишига его увидав, обмерла, сторонится. Но проходит мимо Чугайстер. Не по ее душу пришел. Хоть а есть ли она - душа то? Но не ее, ни домового, примеряющегося к новому коромыслу, ни старого черта, вызыркивающего из-под телеги, кому бы напакостить, не окликает и не обличает он.
Проходит дальше, степенно, к лавке, торгующей солью и всякой специей. Обстоятельно, не торгуясь, выбирает и покупает мешочек соли. Прячет в котомку. Платит монетой. Настоящая монета, не поддельная, не колдовская. не обернется потом ни жабой, ни рыбьей чешуей, ни рябиновой гроздью. Не обманывает людей Чугайстер. Шутит порой, то да, но не обманывает. Расплатившись, идет назад.
Стайка девушек, попавшаяся навстречу ему, улыбается. Он улыбается в ответ. Смотрит прямо и девушки смущаются, хихикают, прячут глаза, заливает шею под бусами густой румянец.
От высокого забора тянет тиной. Смотрит на русалку Чугайстер. Смотрит, вроде бы пристально, а все равно успевает увидеть, как на три шага впереди него, тянется к котомке зазевавшегося селянина мохнатая рука. вроде бы и не торопясь, и не суетясь, но стремительно, смыкаются пальцы Ночника на обросшем запястье, и давешний черт скулит и дергается, будто обжегшись, пятится и бормочет слова извинения. "Не губи, батюшко!" Погрозит черту Чугайстер, постращает, да выпустит. "Не озоруй!"
Есть в округе и мавки. Чует Чугайстер. Для него они все - как на ладони. С виду девка, как девка. Ну, хороша без меры, да разве ж пригожих и человечий род не родит? Родит, и еще как! Только мавку с человечицей он ни за что не спутает. Пахнут они. Пахнут травой, такой, словно только с покоса, и речной водой, и корой древесной, и землицей. А еще чует Ночник их страх по нему. Страх, он такой, сладостью отдается на языке, он и темен, как отражение неба в колодце в безлунную ночь, и светел, как первый медовый сбор, и тягуч. Он и манит Чугайстера, и зовет, и будоражит кровь, и пьянит. И мавки, они тоже чуют его и бегут. Порскают кто куда, быстрыми мальками разлетаются в разные стороны. Все, кроме одной.
Ночник чует ее. Совсем недалече она. Затаилась, как мышка. Тихо, едва уловимо веет волшбой от нее. Неужели, глупая, молодая совсем? Неужели думает, что если сидеть вот так, спрятаться, то не настигнет ее Чугайстер?
Усмехается Ночник. Усмехается и шагает на расписное крыльцо под разудалую вывеску. Рукою распахивает дверь корчмы. Вырываются на волю голоса, запах мяса да хмельные пары. Вырываются и звуки волынки да струнный перебор. Так же вырваться бы, вывернуться бы и мавке. Кинуться, ошеломить, авось и проскочила бы под рукой, авось и позволил бы ей проскочить. Но нет, не кидается. Сидит, навья девка, по всему видно, что ни жива, ни мертва, увидела его, и он ее увидел.
Усмехается снова Чугайстер, шагает в корчму и отпускает дверь за собой. Та захлопывается с тихим стуком, да только вряд ли кто-то кроме его добычи обращает на то внимание.
Не спеша, не торопясь, подходит Чугайстер к столу, за которым у мавки, кажется, зубы свело. Подвигает лавку себе, садится напротив. Смотрит и улыбается, щурит пронзительные синие, как осеннее небо, глаза. Молчит. [NIC]Чугайстер[/NIC][STA]Ой, да не вечер, да не вечер[/STA][AVA]http://savepic.net/7149961.png[/AVA]
Отредактировано Spellcaster (2015-08-18 19:00:33)